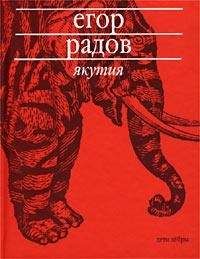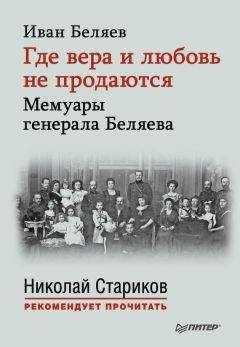За полгода до суда, на «Индигирке», через день после отплытия из Аяна, Пепеляев под впечатлением бесед с Вострецовым и, может быть, предъявленных ему каких-то примет новой жизни вроде кружков по ликвидации неграмотности среди красноармейцев, записал в дневнике: «Душевный кризис. Все переоцениваю, но правда и истина вечны. Если то благо народное, во имя которого я боролся, осуществлено или осуществляется другими, все силы жизни отдам служению новой России. Если нет, если царствуют зло и неправда, никакими силами не заставить меня признать эту власть».
Во Владивостоке, через который его провезли в домзак ГПУ, или по дороге в Читу, где на станциях из окна вагона он мог наблюдать за людьми, в его дневнике появилась еще одна запись, без даты: «Всюду вижу мир. Злоба, война улеглись… Боже! Но почему же Куликовский, этот старый революционер-народник, не оценил положение?.. Роковая ошибка, за которую я поплачусь. Поймут ли меня?»
Тогда же, в своей биографии-исповеди, Пепеляев написал, что увидел в Советской России пусть не то, о чем мечтал, но, во всяком случае, попытку воплощения этого в жизнь. И закончил не без пафоса: «Да не подумают, что я пишу это под страхом ответственности – нет, ее я не боюсь, не раз смерть своими страшными глазами заглядывала мне в глаза в бесчисленных боях Германской и Гражданской войны, и там, в суровых полях далекой Якутии. Говорю и пишу как думаю».
Вопрос не в том, лицемерил он или писал правду или в какой пропорции смешивалось одно и другое, а в том, насколько желание жить и страх за семью заставили его убедить себя, что он действительно так думает.
После того, как огласили подписанное подсудимыми обращение, мало кто сомневался, что они получат незначительные сроки или будут амнистированы. В противном случае лишался смысла их призыв к бывшим товарищам по оружию вернуться на родину и «отдать себя на ее суд». Вероятно, так все и было задумано, приговор предполагался максимально мягкий, но из-за смерти Ленина руководящие инстанции дали обратный ход. В итоге все пошло по другому сценарию: дальневосточный ревком постановил «приветствовать приговор как революционно правильный и соответствующий духу советского законодательства», но одновременно ходатайствовал перед Москвой «о неприменении к Пепеляеву и его сообщникам высшей меры наказания».
Через десять дней председатель ВЦИК Енукидзе это ходатайство удовлетворил – смертную казнь заменили десятилетним заключением, в прочем все осталось без изменений.
Разные судьбы. Столяр и писатель
1
«Обращение к оставшимся за границей офицерам и солдатам русской армии» было опубликовано в харбинской просоветской газете «Вперед», выдержки из него со злобными комментариями печатали другие эмигрантские издания. Это вызвало разочарование в участниках Якутского похода. Над Пепеляевым, раскаявшимся на суде и все равно угодившим на много лет в тюрьму, откровенно издевались; публицист Всеволод Н. Иванов именовал его «каким-то наполеонистым Фигаро».
«Прожил он свой век при монархии, не понимая ее смысла, и в смутную годину оказался таким же темным человеком, руководимым политическими фантазерами и мошенниками. То, что принес покаяние советской власти, еще не означает, что он встал на ее сторону. У таких людей, не привыкших действовать принципиально, – витийствовал Иванов, вскоре ставший секретным агентом ГПУ в Харбине, – нет сторон. Они – листья, облетающие с дерева дореволюционного российского общества, подточенные червем интеллигентщины».
Свойственная Пепеляеву зыбкость политических убеждений, его неспособность безраздельно примкнуть к какой бы то ни было партии – черта не столько даже интеллигента, сколько взыскующего Божьего Града русского праведника. Ни жертва «мошенников», ни тем более авантюрист в стиле Наполеона или Фигаро, каким Пепеляева изображал Иванов, словно речь шла о трех разных людях, не мог бы, как он, из ледяной якутской бездны в отчаянии воззвать к безответным небесам: «Господи, научи меня понимать благо народное, укажи пути доброго служения Родине, укажи правду, дай твердо идти по пути добра и счастья народного!»
Устрялов чуть ли не единственный написал сочувственную статью о друге, но и в ней говорилось, что «пафоса государственного он вообще чувствовать не умел», что «суровый дух автократического водительства ему не мог не быть враждебным», и Пепеляев пал жертвой собственного «поверхностного демократизма, усвоенного из вторых и третьих, да к тому же весьма захолустных рук»; этим объяснялось его недовольство и Колчаком, и советской властью, а то, что в конце концов он принес ей повинную, стало, по Устрялову, таким же следствием непонимания ее природы, как и борьба с ней.
Подобные оправдания Нине Ивановне непросто было отличить от обвинений.
Жены пепеляевских офицеров и те, должно быть, считали, что их мужья пострадали из-за ее мужа. Одинокие реплики в его защиту тонули в хоре негодующих голосов.
Нина Ивановна осталась одна с двумя детьми на руках, без профессии, без денег и без надежды на помощь родственников, которые сами еле сводили концы с концами. Оставленную ей Пепеляевым тысячу рублей она давно потратила, единственным ее козырем был диплом об окончании верхнеудинской гимназии. Нина Ивановна пошла работать корректором в газету, потом кто-то из знакомых, Вишневский, может быть, по возвращении вновь ставший главой харбинского отделения РОВСа, пристроил ее в управление КВЖД на мелкую канцелярскую должность. Это позволило ей выжить и вырастить сыновей.
Писем от мужа она не получала и не знала о нем совсем ничего. Переписку с семьей ему разрешили только через два года.
Единственный из всех осужденных в Чите, Пепеляев с первого до последнего дня заключения просидел в Ярославском политизоляторе ОГПУ, в просторечии – «Коровники». Эта старинная губернская тюрьма находилась в Коровницкой слободе и была известна песней:
В Ярославскую тюрьму
Залетели гуленьки.
Залететь-то залетели,
А оттуда – х…леньки.
Сюда свозили участников крестьянских восстаний и различную «контру». Первое время Пепеляева держали в одиночной камере, потом режим смягчили. «Полтора-два года, – рассказывал он, – я был оторван от внешнего мира, но в конце 1925 года получил разрешение работать в тюрьме». Стекольщик, плотник и, наконец, столяр – вот его тюремные профессии. Столярному ремеслу он обучился в мастерских у товарищей по несчастью.
Из жизни страны Пепеляев исчез. В настоящем для него места не было, его имя упоминалось в советской печати лишь в рассказах о былых победах над ним или о проводившихся им репрессиях против рабочих и крестьян. Маяковский, посетив Свердловск, отчитался за творческую командировку стихами об индустриальном Урале с ретроспективой его тяжелого прошлого:
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Гайда.
Орлом
Клевался
Верховный Колчак.
На самом деле пороли другие.
Вострецов, прекрасно об этом знавший, сохранил о своем аянском пленнике самые теплые воспоминания, хотел ему помочь и в 1928 году, будучи командиром 27-й Омской Краснознаменной стрелковой дивизии, направил письмо в Москву, адресовав его члену Верховного суда РСФСР и главе юридического отдела Рабоче-крестьянской инспекции, старому большевику Арону Сольцу.
Коротко объяснив, почему судьба Пепеляева ему небезразлична, Вострецов с откровенной симпатией охарактеризовал его взгляды и «личные качества»: «Очень честный, бескорыстный, жил наравне с остальными подвижниками боев (солдатами). Лозунг их – все братья: брат генерал, брат солдат и т. д. Мне утверждали его сослуживцы с 1911 года, что Пепеляев не знает вкуса вина (думается, этому можно верить). Имел громадный авторитет среди подчиненных: что сказал Пепеляев – для подчиненных был закон».
Наконец Вострецов перешел к тому, ради чего он и взялся за это письмо: «У меня есть такая мысль: не время ли выпустить его из заключения? Думается, он нам сейчас абсолютно ничего сделать не может, а его можно использовать как военспеца (а он, на мой взгляд, неплохой), если у нас есть такие бывшие враги, как генерал Слащев, который перевешал нашего брата не одну сотню, а сейчас работает в «Выстреле» преподавателем тактики. Вот те мысли, которые я имел и изложил вам как лицу, который этим заведует».
Сольц носил почетный титул «совести партии», но требовал строжайшего соблюдения законности лишь применительно к ее членам. На прочих это требование распространялось по обстоятельствам. Белый генерал, не отбывший свой законно полученный срок, не должен был его заинтересовать.
Пепеляев остался в тюрьме, а Вострецов, через год отличившись в боях во время советско-китайского конфликта на КВЖД, был назначен командиром корпуса. Ему прочили блестящую карьеру, но в 1932 году, в Новочеркасске, он ночью, один, ушел на кладбище, как в Харбине когда-то уходил Пепеляев, и застрелился из нагана.