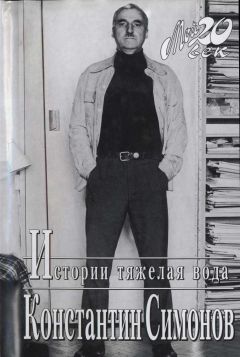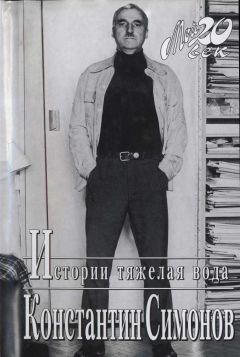А ТОЙ, ЧТО ПЫЛАЛА В ГЛАЗАХ ВОСПАЛЕННЫХ,
А ТОЙ, ЧТО РЫДАЛА, — ЗАПОМНИЛ Я РОДИНУ…»
В рабочем кабинете. Гульрипши, 1969
Памятный камень на Буйническом поле, где был развеян прах Константина Симонова
частности потом уйдут, исчезнут, но самое главное — война, правдивая и в то же время и ужасная, сердце простое и в то же время великое, ум не витиеватый и в то же время мудрый — вот то, что для многих русских людей самое важное, самое их заветное, — все это втиснулось у тебя и вошло в стихи, что особенно трудно. И даже не втиснулось (это неверное слово), а как‑то протекло, свободно и просто. И разговор такой, какой должен быть, свободный и подразумевающийся. А о стиле даже не думаешь: он тоже такой, какой должен быть. Словом, я с радостью это прочел.
Пока что за войну, мне кажется, это самое существенное, что я прочел о войне (в стихах‑то уж во всяком случае)…»
Твардовский вскоре ответил мне письмом, которое, думаю, правильно будет привести здесь.
«11.11.44
Дорогой Костя! Сердечно благодарю тебя за твое письмо, оно меня тронуло и порадовало: в наше время люди забывают иногда о таких простых и нужных вещах, как выражение товарищеского сочувствия работе другого, хотя бы она и была иной по духу, строю, чем твоя. Мне жаль, что ты знакомился со второй частью «Теркина» в отрыве от первой (никаких вообще «частей» в книге не будет), но я покамест не имею другого, кроме первой части, издания, и к тому же она уже во многом не соответствует последнему варианту. Буду рад подарить тебе книгу, когда она выйдет более или менее полностью, а пока что хотел бы получить от тебя твою книжку стихов — гослитиздатовскую. Жму руку. Еще раз спасибо.
А. Твардовский».
В тоне ответа Твардовского на мое письмо присутствовала та определенность и строгая сдержанность, которая вообще отличала и его речь, и его письма во всех случаях, когда дело касалось литературы и других серьезных для него предметов.
Уже после смерти Твардовского я имел возможность вновь убедиться в этом, по обязанности председателя комиссии по литературному наследию, читая некоторые из писем, связанных с его редакторской деятельностью. Тогда, в 1944 году, отвечая на мое письмо, он счел нужным с достаточной определенностью сказать о моей работе как об иной по духу и строю, чем его собственная.
Так оно и было тогда, так осталось для него и потом. Даже в последние годы его жизни, когда мы с ним были в наиболее тесных отношениях, его добрые чувства ко мне не делали для него ближе мою работу. Он неизменно отзывался о ней так, как она, на его взгляд, того заслуживала, не золотя пилюли, если в такой пилюле была, по его мнению, необходимость.
Говорю об этом как о прекрасном, но, к сожалению, не частом в нашем кругу свойстве. Ставя в литературе выше всего ее правдивость, Твардовский распространял это правило и на правдивость суждений о литературе. Строгое требование правды, обращенное к литературе в целом и к тем ее произведениям, с которыми он сталкивался как редактор, было с тою же строгостью обращено им и к самому себе, ко всему, что выходило из‑под его пера, в том числе — и к письмам, затрагивающим общественные и литературные проблемы, содержащим его оценки сделанного другими.
Я не считаю, что он всегда был прав в своих оценках, но его мнение всегда было определенно. Искреннее и твердое убеждение в своей правоте и чувство ответственности стояли за каждым написанным им в письме или отзыве словом. О такую определенность иногда можно было и ушибиться, но ее нельзя было не уважать. Эта черта, свойственная Твардовскому как деятелю литературы, дорогого стоила; она свидетельствовала о силе и целостности его личности.
С той военной поры и доныне много раз перечитанный за десятилетия «Теркин» остался для меня самым главным и сильным впечатлением от поэзии Твардовского. Сказанное не значит, что я ставлю «Книгу про бойца» выше позднейших и — каждая по — своему — прекрасных поэм Твардовского. Поэзия Твардовского вообще не рождает желания, утверждая одно, отрицать другое; она слишком сильна и слишком едина в своем поэтическом волеизъявлении, да и попросту слишком хороша для того, чтобы мысленно пускать его поэмы по соседним беговым дорожкам, выясняя, какая какую обойдет. Дорога всегда была одна — никаких соседних и боковых не было — дорога от него — к нам. От поэта к нашим, читательским, душам. А что из посланного им за его жизнь по этой прямой дороге с наибольшей силой толкнулось в твою душу — зависит не только от него, но и от тебя, от твоего восприятия и поэзии, и жизни.
Я говорю лишь о том, что в мою собственную душу с наибольшею силою толкнулся или — хочется употребить более сильный глагол — вторгся именно «Василий Теркин».
Потом, в куда более заскорузлом для потрясения поэзией немолодом возрасте, с тою же силой вторглась в мою душу лирика Твардовского последних лет. И поразило не то, как она написана, хотя и это поразительно, а то, как в ней подумано о жизни, с какой глубиной, печалью и мужеством, заставляющими заново подумать о самом себе, как живешь и как пишешь.
Возвращаясь к «Василию Теркину», хочу добавить, что из памяти почему‑то и до сих пор не выходят некоторые литературные разговоры и споры той поры, когда поэма вышла в свет. Иногда в них сквозило желание умалить то, что сделал и продолжал делать Твардовский своим «Теркиным». Не обходилось без размышлений на тему: что такое общечеловеческое, что такое крестьянское, что такое советское и что такое русское. Причем «крестьянское» и «русское» отдавалось «Теркину», а «советское» и «общечеловеческое» оставлялось на долю других литераторов и других произведений.
Отзвуки этих разговоров и споров вспыхивали и потом. Помню, в частности, наши яростные дружеские споры по этому поводу с Назымом Хикметом, за плечами которого была собственная удивительная поэзия, полная глубокого общечеловеческого содержания и при этом неотъединимо несшая в себе присущие ей национальные черты. Как это ни странно, мы так и не могли сговориться с Хикметом в оценках «Василия Теркина». При всех признаваемых им поэтических достоинствах для него это была чисто русская и прежде всего крестьянская поэма, а для меня — общечеловеческая.
А впрочем, может быть, и не так уж странно. Порою как раз крупные таланты, ведя в поэзии огонь в собственном, однажды избранном направлении, теряют то боковое зрение, без которого их взгляд на поэзию делается и неполным, и несправедливым.
Помню, как сам Твардовский, например, искренне и последовательно отрицал не масштабы дарования, а масштабы значения Маяковского в нашей поэзии, считая самоё структуру его поэтики чуждой русскому стихосложению.
* *Случилось так, что после конца войны я почти год пробыл в долгих зарубежных командировках и московская послевоенная литературная жизнь началась для меня только с осени 1946 года. Еще во время войны Твардовского и меня ввели в Президиум Союза писателей. А вернувшись в Москву, я вдобавок стал одним из секретарей Союза.
Для меня послевоенная Москва начинается прямо с осени сорок шестого года, с постановлений ЦК, доклада Жданова о «Звезде» и «Ленинграде» и с заседаний, которые проходили под председательством Жданова в ЦК и на которых обсуждался в течение двух или трех — не помню уже сейчас — дней вопрос о том, каким же быть Союзу писателей, и как им руководить, и что нужно делать.
В этих заседаниях участвовали все, кто входил тогда в Президиум Союза писателей, в том числе и те писатели, которых, до выборов, кооптировали уже во время войны, где‑то в сорок четвертом — в начале сорок пятого года, когда Союзом стали руководить Тихонов и Поликарпов.
Поликарпов уже не был к тому времени в Союзе писателей, его сняли где‑то еще в сорок пятом или весной сорок шестого года, в те времена, когда я был за границей, — и я об этом только слышал из вторых уст.
По — моему, одним из непосредственных поводов, а может быть последним поводом, к снятию Поликарпова из Союза писателей было какое‑то заседание Президиума, на котором он высказывался в обычной своей прямолинейной и резкой манере, задел этим Твардовского, который, не пожелав мириться с таким тоном разговора, встал и, хлопнув дверью, ушел.
До этого у Поликарпова были конфликты с Вишневским как с редактором «Знамени» по поводу публикаций некоторых вещей, в частности, кажется, «Ленинградского дневника» Веры Инбер и «Спутников» Пановой. Но последней каплей было это — уход Твардовского с Президиума. И кажется, именно после этого Сталин произнес роковую для Поликарпова фразу о том, чтобы не подпускать его в дальнейшем к работе с интеллигенцией, — сказано это было еще грубее, — и потом, после этой фразы, до смерти Сталина, все попытки людей, уважавших Поликарпова, ценивших его, вернуть его к деятельности Союза писателей не приносили успеха. Я думаю даже, что наши предложения не докладывались Сталину, — такое у меня ощущение. А мы предлагали то сделать его директором Литературного института, то ввести в состав редакционных коллегий «Литературной газеты», «Нового мира». Все это каждый раз упиралось в стенку молчания — отказ!