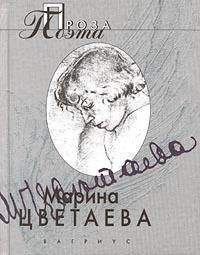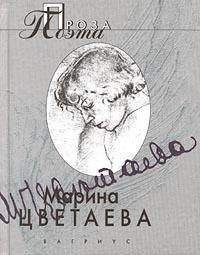А минута была тяжелая. Полный перелом хребта.
Держа в руках подробнейший Трогательнейший рукописный и рисованный маршрут— в мужчинах того поколения всегда было что‑то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где‑нибудь на повороте будем сидеть и плакать, — маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и, уж конечно, собственным, как дети рисуют, домиком: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою.
— Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехал и довез бы, но — вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший готтентотский эгоизм — мне так хочется завидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе — так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благость! — сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей… Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью…
— Золото в лазури! — по ассоциации говорю я.
Он, хватая мою руку:
— Вы не знаете, что вы сейчас сказали! — Вы — назвали. Я об этом все время думаю — и боюсь. Боюсь — начать. Боюсь— все выйдет по — другому… Для них— «переиздать»… Для них — «стихи». Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну… Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь.
…Выйдя с вокзала — прямо, потом (переводя меня через нарисованный шлях) перейти шоссе (умоляюще:) только раз перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мне так безумно хочется вас ждать, вас наверное ждать. Завидеть вас издали, в синем платье, ведущей дочь за руку…
Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого больше смущена, чем просвещена: столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно; устрашенная силой его ожидания — когда так ждут, всегда что‑нибудь случается, ясно сознавая, что дело не во мне, а в моей синеве — сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссе, на котором должна возникнуть синей тенью.
Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили— стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно — нежилые. Постройки, а не дома. Сюда можно приезжать и отсюда можно — нужно! — уезжать, жить здесь нельзя. И странное население. Странное, во- первых, чернотою; в такую жару — все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами — и, кажется, венками? — на толстых животах. Цветы — лиловые.
Наконец — дом, все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце, с крыльца:
— Вы? Вы? Родная! Родная!
Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке, явно для пожара — уж и спички готовы: перила! — вводит в совершенно голую комнату с белым некрашеным столом посредине, усаживает.
Как вам здесь нравится? Мне… не нравится. Не знаю почему, но не нравится… Не понравилось сразу, как вошел… Уже когда ехал — не понравилось… Говорили, у Берлина чудные окрестности… Я ждал… вроде Звенигорода… А здесь… как‑то… голо? Вы заметили деревья? (Не заметила никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками.) Без тени! Это человек был без тени— в каком‑то немецком предании, но это был — человек, деревья — обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют— понятно: в таких деревьях! У меня в Москве по утрам — всегда пели, даже в двадцатом году — пели, даже в больнице — пели, даже в тифу — пели…
И население противное. Подозрительно — тихое. Ступают, точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И — может быть, это под Берлином мода такая? — все в черном, ни одного даже коричневого и серого, все черное, даже женщины — в черном.
(Я, мысленно: «А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве!»)
— А мебель — белая, и пахнет свежим тесом. В этом что‑то (отрясаясь)… зловещее? Может быть, это какой‑нибудь особенный поселок?
Я, быстро отводя:
— Нет, нет, после войны — везде так.
Он, явно облегченно:
— Ах! Значит— вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для вдов и вдовцов… Как это по — немецки… по — прусски… И как по — немецки, что они не догадаются пережениться и одеться во что‑нибудь другое… Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов — совершенно необъяснимое при отсутствии цветов, — потому что цветов, вы заметили, нет, потому что— садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где‑нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек… Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц… Впрочем, понятно: постоянные поминки… Как с кладбища, так поминать— сосисками и пивом, помянули — опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить — с тоски!
Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, — в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу ездят целыми фурами, фургонами… Вы таковых не встречали? Полные фургоны черных людей… Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе… Вдовье место, вдовцово место, противное место…
И слово не нравится: Zossen. Острое и какое — то плоское, точно клецка.
Простите, что я вас сюда позвал!
Но мы ведь ничем не связаны? (Наклоняясь к моему уху:) Мы ведь можем уехать? Сначала — посидеть, а потом — уехать? Провести чудный день?
Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера туда — сюда! — не поехал, я тотчас же свернул вам вслед, следующим же трамваем — в «Pragerdiele», но… устыдился… Весь вечер ходил по кафе и в одном встретил (называет язвящее его имя). Что вы об этом думаете? Может она его любить?
Я, твердо:
— Нет.
— Не правда ли: нет? Так что же все это значит? Инсценировка? Чтобы сделать больно — мне? Но ведь она же меня не любит, зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего — делать больно себе. Вы его знаете?
Рассказываю.
— Значит, неплохой человек… Я пробовал читать его стихи, но… ничего не чувствую: слова. Может быть, я — устарел? Я очень усердно читал, всячески пытался что‑нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче.
…Можно любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дикаря… Но этот дикарь не должен писать теоретических стихов!
(Взрывом.) О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете — он ей нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы)… тысячелетия… Ей нужно (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было убить прошлое, убить себя — ту, сделать, чтобы той — никогда не было. Это — месть. Месть, которую оценил я один. Потому что для других это просто увлечение. Так… естественно. После сорокалетнего лысеющего нелепого — двадцатилетний черноволосый, с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и забылась: разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это — голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит… О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сесть — и молчать, стать — и молчать, глядеть — и молчать.
Месть? Но за что?
— За Сицилию. За «Офейру». «Я вам больше не жена». — Но— прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне — жена? Она мне — она… Мерцающее видение… Козочка на уступе… Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана… Где она увидела «интимность», «собственничество», печать (недоуменно) мужа?
Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что, вот… жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я всегда этого не знал. И вот, из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня.
…Мне ее так жаль.
Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. В ней — сила! Сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она по — человечески, не проездом с группой, с труппой, полчаса в кафе, а дружески, по — человечески, по — глубокому, по — высокому — я бы, обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался…
Вы не знаете, как я ее любил, как ждал! Все эти годы — ужаса, смерти, тьмы — как ждал. Как она на меня сияла…