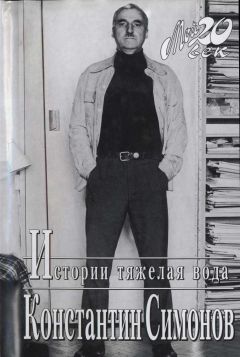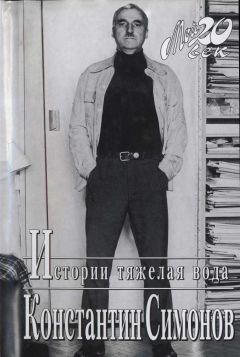Вгляделся — почувствовал их нравственную силу и меру значения в общем замысле.
Чтобы уже не возвращаться к этому, забежав вперед, скажу, что в середине шестидесятых годов мне захотелось эти слова из книги «За далью — даль» — «Тут ни убавить, ни прибавить» — сделать названием того документального фильма о начале Великой Отечественной войны, который я задумал вместе с писателем Евгением Воробьевым и режиссером Василием Ордынским. Слова «Тут ни убавить, ни прибавить» были не только названием сперва сценария, а потом и фильма почти на всем протяжении нашей работы над ним, но были как бы и высшим смыслом того, во имя чего мы делали этот фильм, постоянным напоминанием о том, как именно надо его сделать.
Мне до сих пор жаль, что в многотрудную пору выпуска этого фильма, — а вышел он на экран после долгих и жестоких споров, — мне пришлось заменить строку Твардовского, первоначально стоявшую в заголовке фильма, строкою собственного стихотворения — «Если дорог тебе твой дом…». Стихотворение «Убей его» было тоже дорого мне памятью о самом трудном времени войны, но выбранная первоначально строка из «За далью — даль» намного больше отвечала сути сделанного нами фильма.
К началу 1958 года, после того как я около трех лет снова редактировал «Новьщ мир», я надумал уехать на два — три года из Москвы в интересные для меня места, совмещая там писательскую работу с корреспондентской.
В редакции «Правды» в принципе одобрили мое намерение поехать ее разъездным корреспондентом по республикам Средней Азии, а мои ташкентские друзья готовы были гостеприимно принять меня в Ташкенте, если я на эти два — три года переселюсь туда вместе с семьей.
Для себя самого я все именно так и решил, но одного моего решения было мало. При отъезде на такой длительный срок речь шла о прекращении практического участия в работе секретариата Союза писателей и об уходе с поста главного редактора «Нового мира».
Чтобы по возможности ускорить решение вопроса, я просил о приеме у Н. С. Хрущева, бывшего тогда первым секретарем ЦК КПСС, и несколько дней спустя был принят им.
Не думаю, что разговор, с которым я к нему пришел, был для него неожиданным; препятствий к тому, чтобы я ехал на два — три года корреспондентом «Правды» в Средней Азии, не возникло, за исключением одного: после моих объяснений, почему я хочу уехать, и после довольно долгого разговора на литературные темы, который в данном случае не идет к делу, Хрущев, прищурясь, спросил меня:
— Значит, через две недели, как я вас понял, хотите быть уже там, в Ташкенте? — Речь перед этим шла о том, что я хотел быть в Ташкенте, а точнее, в Голодной степи к началу сева хлопка. — А кто будет здесь редактором в «Новом мире»?
Я ничего не ответил, только молча пожал плечами. Этот вопрос было не мне решать. Да и отвечать на него как‑то не с руки.
Но Хрущев, видимо, понял мое молчание по — своему: не то как упорство, не то как выражение обиды, и во второй раз спросил, уже напористо, с нажимом:
— Почему уходите от ответа? Сегодня работаете в журнале, а завтра хотите уехать. Вместо вас послезавтра надо на ваше место другого. Кого? Что вы сами — mo об этом думаете? Не поверю, чтоб сами об этом не думали.
— Конечно, думал, — ответил я и назвал того, о ком действительно думал все последние месяцы, собираясь расстаться с журналом: Твардовского. И сказал несколько слов о своем взгляде на Твардовского. Именно как на редактора. Добавлять что‑либо более пространное не возникло желания, да, кажется, и не было нужды.
Хрущев сказал мне в ответ не то «обсудим», не то «обдумаем» и, поднявшись, пожелал доброго пути в Ташкент.
Я уехал в Ташкент. А Твардовский во второй раз стал редактором «Нового мира».
Хочу, чтобы те, кто прочтет этот маленький эпизод, меня верно поняли. К тому времени мысль о возвращении Твардовского в «Новый мир» возникла у многих людей — и литераторов, и не литераторов, понимавших, что Твардовский находится в самом разгаре сил и что ему в самую пору вновь принять на себя большое общественное литературное дело.
Не думаю, чтобы мой ответ сыграл какую‑то роль в возвращении Твардовского в «Новый мир». Это и так бы состоялось. Но меня все- таки спросили: что я думаю? И я ответил, сказав то, что было на устах у многих.
Осенью 1958 года я получил от Твардовского полусерьезное- полушутливое послание на бланке «Нового мира».
«Дорогой Константин Михайлович!
Надеюсь, ты не станешь отказываться от тех слов, коими при передаче дел ко мне ты обещал журналу свое сотрудничество. Я их хорошо помню, есть и свидетели. Не откажи уведомить: что ты сможешь дать нам в 59 (хотя бы) году…
Желаю тебе всего доброго под ташкентскими кущами.
Твой А. Твардовский».
Весной 1959 года, помнится, в первый же день приезда из Ташкента в Москву, я зашел к Твардовскому в «Новый мир». Дел у меня не было, просто потянуло зайти в журнал. Твардовский был приветлив, шутил: как же я теперь буду представлен на близящемся съезде Союза писателей — как московский или как ташкентский писатель? Расспрашивал о моей работе в Средней Азии — где был и что видел… Я чувствовал его доброе отношение к себе, но не только это. В противоположность некоторым другим моим московским товарищам по профессии, он с серьезным одобрением относился к тому, что я на довольно долгий срок уехал в Среднюю Азию и, оторвавшись от привычной литературной жизни, с другим сталкиваюсь и о другом думаю. Он смотрел на это как на писательскую необходимость переменить на время жизнь, по — другому оглядеться вокруг и по — другому посмотреть на себя. Не выдаю то, что я сейчас сказал, за слова Твардовского, но разговор с ним в тот день шел примерно об этом.
Вдруг вспомнив среди этого разговора о Монголии, а вслед за ней и о своем романе «Товарищи по оружию», который я когда‑то печатал в «Новом мире» у Твардовского, я поддался возникшему во мне душевному движению и, вытащив из портфеля, сунул Твардовскому в руки папку с рукописью, которую до этого вовсе не собирался ему давать.
— Возьми, прочти. И скажи, что думаешь об этом, только быстро, дня за три.
— Коли быстро, так послезавтра принесу прочитанную, — ответил он, кажется, почувствовав мое волнение.
— Пока не поговорим о ней — я тебе ее не давал, а ты ее не читал, — сказал я про рукопись.
Твардовский молча кивнул и положил рукопись к себе в портфель.
Рукопись была небольшая — первые двести с лишним страниц романа «Живые и мертвые», которые потом, в ту же весну, отдельно, с отрывом в несколько месяцев от всего остального — от продолжения и окончания романа, были напечатаны в журнале «Знамя».
Это был трудный для меня момент. Роман был написан почти полностью, но все вместе как‑то не укладывалось и не укладывалось… В конце концов я приготовил к печати эту небольшую рукопись — первые, больше всего нравившиеся мне самому главы. Я хотел убедиться в возможности напечатать их вот так, отдельно, и в чьей‑то решимости это сделать.
Видимо, в тот момент такое самоутверждение было мне необходимо для окончания работы. По правде говоря, не знаю, отдал бы я тогда эту рукопись Твардовскому, если бы он обрадовался ей и попросил ее для «Нового мира». Наверное бы, все‑таки отдал, хотя и в этом была бы известная неловкость перед «Знаменем», редакция которого читала год назад первую половину романа и вернула мне ее для доработки со многими замечаниями, в том числе и вполне справедливыми.
Но этот вопрос, который я ставлю перед собой сейчас, тогда, весной 1959 года, мне обдумывать не пришлось. Начало моего романа Твардовскому не понравилось, как он выразился — «не погляделось». Придя к нему через день, я сидел напротив него, и он, переворачивая рукопись лист за листом, огорченно говорил мне о своем недовольстве ею. А я сидел, слушал и все не мог взять в толк: чем он недоволен, что не так? Доводы его, высказанные мягко и с вполне очевидным доброжелательством, на этот раз меня не убеждали.
Терпеливо растолковывая мне, почему не понравилась моя рукопись, где я, по его мнению, напрасно раздвоился — между романом и рассказом от первого лица, Твардовский прибег даже к терминам из области теории литературы. Уверял меня, что я как‑то неправильно, с точки зрения технологии литературного мастерства, смещаю точку зрения на происходящее, вижу одно и то же разными глазами… А я слушал и не мог ни согласиться с ним, ни понять его. Понимал только, что, раз дело дошло до теории литературы, значит, при чтении рукописи был утрачен первоначальный непосредственный интерес к ней. А раз так — стало быть, не о чем и говорить!
Наконец Твардовский протянул мне мою рукопись с закладочками на многих страницах, со следами внимательнейшего чтения и, освободившись от нее, огорченно развел руками: мол, рад бы соврать тебе, да не могу, не имею права…