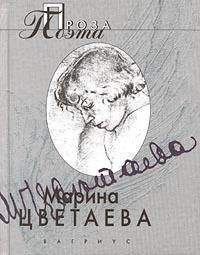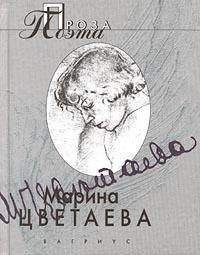— Так ближе к огню. И к медведю.
— Но медведь — белый, а платье — темное: вы вся будете в волосах.
— Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть на стул! — я, уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами (Сережа, укоризненно: «Ах, папа!..»).
— Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам так— приятно… (Пауза.) И по этой шкуре же все ходят…
— Crime de lese‑Majeste! То же самое, что ходить по лилиям.
— Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную и вы нам почитаете. Вас очень хочет видеть Есенин — он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько… вольно. Вы не рассердитесь?
— Не бойтесь, это просто— смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу, на банкетке — посреди комнаты — вы с Лёней, обнявшись.
Я:
— Что — о-о?!
Он, невозмутимо:
— Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Лёнин черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэтов — и поэтесс — но все же, признаться, удивился…
Я:
— Это был Есенин!
— Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.
— Да, но Есенин в голубой рубашке, а я…
— Этого, признаться, я не разглядел, да из‑за волос и рук ничего и видно не было.
Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно — разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись — через все и вся — поэты.
Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы — на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту… (Мысленно и медленно обхожу ее:) Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. Приятно, когда обратно — и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы.
После Лёни осталась книжечка стихов — таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности — поверила.
Сижу в той желтой зальной— может быть, от Сережиных верблюдов — пустыне и читаю стихи, не читаю — говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда перестала их знать наизусть, а знать перестала, когда говорить перестала, а говорить перестала — когда просить перестали, а просить перестали с 1922 года — моего отъезда из России. Из мира, где мои сти — хи кому‑то нужны были, как хдеб, я попала в мир, где стихи — никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны — как десерт: если десерт кому‑нибудь — нужен…
Читаю в первую голову свою боевую Германию:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь»?
Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!
Ну как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где все еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант.
Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке —
Geheimrat Goethe по аллее П
роходит с веточкой в руке.
Ну как же я тебя отрину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, когда
От песенок твоих в восторге
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят Святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabentor,
Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус, —
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь!
Нет ни волшебней. ни премудрей
Тебя, благоуханный край.
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лорелей.
Эти стихи Германии — мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи успеха не имеют, имеют обратный успех. Но здесь, — чувствую — попадают в точку, в единственную цель всех стихов — сердце. Вот самое серьезное из возражений:
— Волшебный, премудрый — да, я бы только не сказал — благоуханный: благоуханны — Италия, Сицилия…
— А — липы? А — елки Шварцвальда? О Tannenbaum, о Tannenbaum[157]! А целая область — Harz, потому что Harz— смола. А слово Harz, в котором уже треск сосны под солнцем…
— Браво, браво, М. И., это называется — защита!
Читаю еще:
Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер! Смотрите: уж скоро ночь!
О чем — поэты, любовники, полководцы?
Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.
Читаю весь свой стихотворный 1915 год— а все мало, а все — еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь — не ударяю, что возношу его на уровень лица — ахматовского. Ахматова! — Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное — неизбежное — при каждой моей строке — сравнивание нас (а в ком и — стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. Но, если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я‑то читаю не против Ахматовой, а к Ахматовой. Читаю, — как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой Москву — лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург— победить, а для того, чтобы эту Москву — Петербургу — подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой — преклонить. Поклониться ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов на вершине.
Что я и сделала, в июне 1916 года, простыми словами:
В левучем граде моем купола горят,
И Спаса Светлого славит слепец бродячий,
И я дарю тебе свой колокольный град
— Ахматова! — и сердце свое в придачу.
Чтобы все сказать: последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что‑то вечнее любви, то подарить — что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить ей — Кремль, я бы наверное этих стихов не написала. Так что соревнование, в каком‑то смысле, у меня с Ахматовой — было, но не «сделать лучше нее», а — лучше нельзя, и это лучше нельзя — положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом в 1916—17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама — одна из самых моих больших радостей за жизнь.
Потом — читают все. Есенин читает Марфу, Посадницу, принятую Горьким в «Летопись» и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную — народного гнева. — «Как Московский царь — на кровавой гульбе — продал душу свою — Антихристу»… Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, это Milchgesicht[158], это оперное «Отоприте! Отоприте!» — этот — это написал? — почувствовал? (С Есениным я никогда не перестала этому дивиться.) Потом частушки под гармонику, с точно из короба, точно из ее кузова сыплющимся горохом говорка:
Играй, играй, гармонь моя!
Сегодня тихая заря,
Сегодня тихая заря. —
Услышит милая моя.
Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:
Поедем в Ца — арское Се — ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло.
Пьяны ему цензура переменила на рьяны, ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает — только рьяные!
Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. И еще другой критик, которого зовут Луарсаб Николаевич. Помню из читавших еще Константина Ландау из‑за его категорического обо мне, потом, отзыва — Ахматовой. Ахматова: «Какая она?» — «О, замечательная!» Ахматова, нетерпеливо: «Но можно в нее влюбиться??» — «Нельзя не влюбиться». (Понимающие мою любовь к Ахматовой — поймут.)
Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется — Городецкий. Многих — забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева — на войне.
Читал весь Петербург и одна Москва.
…А вьюга за огромными окнами недвижно бушует. А время летит. А мне, кажется, пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша «Северных Записок», которая и выводит меня в свет: сначала на свет страниц журналов (первого, в котором я печатаюсь), а сейчас — на свет этих люстр и лиц.