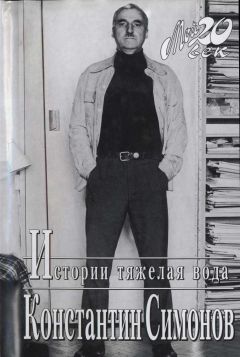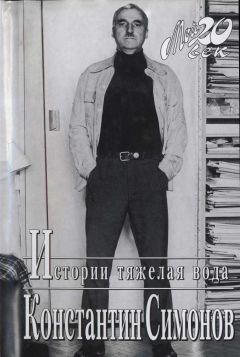Примерно через месяц после этого мы перебрались в Москву, я поступил доучиваться на второй курс ФЗУ точной механики имени Мандельштама, а отчим приступил к работе преподавателем военной кафедры Индустриального института имени Карла Либкнехта на Разгуляе — почему‑то всегда вспоминаю об этом, когда езжу в находящееся теперь неподалеку, за два квартала, издательство «Художественная литература».
Спрашиваю сейчас себя: наложило ли какой‑то след все происшедшее тогда, тем летом, в Саратове на мое общее восприятие жизни или, если угодно, на психологию пятнадцати — шестнадцати- летнего подростка? И да, и нет! Самое главное, с отчимом все в конце концов получилось так, как оно и должно было быть. Он — мерило ясности и честности для меня с первых детских лет — таким мерилом и остался, и люди, которые с ним имели дело, убедились в этом, то есть что‑то самое главное оказалось правильным. И в трудные для нас месяцы почти все люди, с которыми мы сталкивались и имели дело, отнеслись к нам хорошо — и это все тоже оказалось правильным, таким, каким мы и могли ожидать. Рассказ отчима о допросах, кончившихся для него благополучно, потому что он был человеком очень сильным, цельным, оставил в душе осадок какого‑то неблагополучия, ощущения, что с другим человеком в этих обстоятельствах могло выйти по — другому, другой человек мог не выдержать того, что выдержал он. Эта тревожная нота осталась в памяти, наверное, отчетливей и существенней, чем тот некрасивый поступок начальства, который отчим коротко назвал «свинским поведением».
А кроме всего другого, пришло еще ощущение некоторого, может быть неосознанного, возмужания, я оказался на что‑то способным в критических обстоятельствах, хотя бы на то переселение, которое я совершил отчасти на собственном горбу. Отчим не хвалил меня за это, вообще не любил хвалить меня, но я, хотя он по- прежнему был недоволен тем, что я учусь и собираюсь продолжать учиться в ФЗУ, почувствовал, что он стал спокойнее относиться к этому. Видимо, после того как я провел с матерью четыре месяца без него, отчим признал мое право на самостоятельность решений, и это смягчило его недовольство моим выбором жизненного пути, хотя недовольство все равно осталось, еще долго оставалось. В общем, происшедшее немножко поглубже ткнуло меня носом в жизнь, и это было жестокое, но благо, если говорить о духовном развитии начинающего жизнь человека.
Таким же жестоким благом были для меня месяц или полтора, которые я два года спустя провел в больнице в Москве на Собачьей площадке, в больнице, превращенной в изолятор для больных брюшняком. Брюшняк этот — так запомнилось мне с тех времен — был занесен в Москву как одно из последствий голода 33–го года на Украине. В Москву тянулись спасавшиеся от голода люди, приезжали, скапливались на вокзалах — это было одной из причин эпидемии брюшняка; так я об этом слышал тогда в больнице.
Я лежал в палате для тяжелых, пятеро из нас умерли, трое выжили. В первые дни один из потом умерших рассказывал об этом голоде в полубреду, рассказывал горячечно, но понятно. Он был из подобранных на вокзале. Конечно, и в Саратове я жил не в безвоздушном пространстве, в городе не было и того, и другого, и третьего, к карточкам была уже привычка нескольких лет. Еда в той заводской столовой, где мы обедали, учась в ФЗУ, была странно запомнившейся: в тот год, когда не было многого другого, хорошо уродилась на Нижней Волге соя, которую там вдруг стали культивировать, и мы ели каждый день эту сою — и в виде супов, и в виде котлет, и в виде киселей. Но с прямым рассказом о том, что такое голод, с прямым видением его последствий я столкнулся лишь тогда, в 33–м году, в больнице, жизнь сунула меня носом в это только там. И это запомнилось и тоже было какою‑то жестокою частицей возмужания.
Возвращаясь в воспоминаниях к саратовским годам — к тридцатому, к тридцать первому, — вспоминаю какие‑то подробности, говорящие мне сейчас о том, что в воздухе витало разное. Запомнилась какая‑то частушка того года: «Ой, калина — калина, шесть условий Сталина, остальные — Рыкова и Петра Великого». Я ее петь не пел, но слышать — слышал. Значит, кто‑то ее пел, как‑то она переносилась. Было в воздухе такое, было и другое. Помню кем‑то, кажется, в ФЗУ показанную мне бумажку, вроде листовочки, — трудно сейчас сообразить, просто ли это было рисовано от руки, или переведено в нескольких экземплярах через копирку, или сделано на гектографе, — но ощущение какой‑то размноженности этого листочка осталось, во всяком случае. На листке этом было нарисовано что‑то вроде речки с высокими берегами. На одном стоят ТРОЦКИЙ, Зиновьев и Каменев, на другом — Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе — в общем, кто‑то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси». Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, может, этот листок показывали мне не в ФЗУ, а еще раньше, в школе. Но было тогда и такое, тоже существовало в воздухе. Но запомнилось как смешное, а не как вошедшее в душу или заставившее задуматься.
Не знаю, как другие, а от меня в те годы такое отскакивало. Я был забронирован от этого мыслями о Красной Армии, которая в грядущих боях будет «всех сильнее», страстной любовью к ней, въевшейся с детских лет, и мыслями о пятилетке, открывавшей такое будущее, без которого жить дальше нельзя, надо сделать все, что написано в пятилетнем плане. Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, погибнем, не сможем воевать, если на нас нападут, — это было совершенно несомненным. И, может быть, поэтому когда я слышал о борьбе с правым уклоном, кончившейся в тогдашнем моем представлении заменой Рыкова Молотовым, то казалось ясным, что с правым уклоном приходится бороться, потому что они против быстрой индустриализации, а если мы быстро не индустриализируемся, то нас сомнут и нечем будет защищаться, — это самое главное. Хотя в разговорах, которые я слышал, проскальзывали и ноты симпатии к Рыкову, к Бухарину, в особенности к последнему, как к людям, которые хотели, чтобы в стране полегче жилось, чтоб было побольше всего, как к радетелям за сытость человека, но это были только ноты, только какие‑то отзвуки чужих мнений. Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту, — его правота была для меня вне сомнений и в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шестнадцать лет.
Не знаю, как для других моих сверстников, для меня 1934 год почти до самого его конца остался в памяти как год самых светлых надежд моей юности. Чувствовалось, что страна перешагнула через какие‑то трудности, при всей напряженности продолжавшейся работы стало легче жить — и духовно, и материально. Я ощущал себя причастным к этой жизни, потому что у меня было ощущение, что я работал почти всю пятилетку, ведь ФЗУ — это были и занятия, и четыре часа ежедневной работы. Потом, окончив ФЗУ, я одно время работал на авиационном заводе, а после него токарем в механической мастерской тогдашней кинофабрики «Межрабпомфильм». Это была маленькая мастерская, восемь человек, один токарный станок, находившийся в моем распоряжении, разнообразная и поэтому интересная работа. Кроме того, я за год до этого начал всерьез писать стихи, очень плохие, но мною воспринимавшиеся уже как нечто серьезное, связанное со всей моей будущей жизнью.
Среди других стихов я под влиянием прошлогодних поездок писателей по Беломорско — Балтийскому каналу и вышедших после этого очерков, книг и пьес написал неумелую поэму «Беломорканал» — о перековке уголовного элемента. Несколько кусочков из этой поэмы у меня после того, как я ее долго носил в литконсультацию, взяли для сборника молодых, выпускавшегося этой консультацией в Гослитиздате. Вдобавок в свой очередной отпуск я получил командировку и некоторое количество денег от массового сектора работы с начинающими авторами, существовавшего в Гослитиздате, и поехал по этой командировке в качестве молодого рабочего автора — а у меня действительно уже был трехлетний рабочий стаж — на Беломорканал для того, чтобы посмотреть самому то, что там происходило, и, может быть, наново написать свою поэму, из которой сколько‑нибудь удачными — я уже и сам понимал это — получились только отдельные кусочки.
И строительство Беломорканала, и строительство канала Москва — Волга, начавшееся сразу же после окончания первого строительства, были тогда в общем и в моем тоже восприятии не только строительством, но и гуманною школою перековки людей из плохих в хороших, из уголовников в строителей пятилеток. И через газетные статьи, и через ту книгу, которую создали писатели после большой коллективной поездки в 33–м году по только что построенному каналу, проходила главным образом как раз эта тема — перековки уголовников. О людях, сидевших за всякого рода бытовые преступления, писалось гораздо меньше, хотя их было много, но они как‑то мало интересовали и журналистов, и писателей. Сравнительно мало писалось и о работавших на строительстве бывших кулаках, высланных из разных мест страны на канал, хотя их там тоже было много, не меньше, чем уголовников, а, наверное, больше. Чуть побольше — эта тема не обходилась — писали о бывших вредителях, которые занимали различные инженерные посты на стройке. По уделяемому им вниманию они занимали второе место после уголовников. Но как бы то ни было, все это подавалось как нечто — в масштабах общества — весьма оптимистическое, как сдвиги в сознании людей, как возможность забвения прошлого, перехода на новые пути. Старые грехи прощались, за трудовые подвиги сокращали сроки и досрочно освобождали и даже в иных случаях недавних заключенных награждали орденами. Таков был общий настрой происходящего, так все это подавалось, и я ехал на Беломорканал смотреть не как сидят люди в лагерях, а на то, как они перековываются на строительстве. Звучит наивно, но так оно и было.