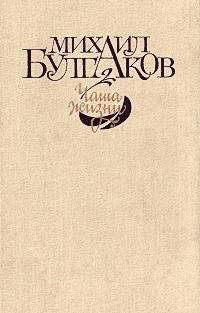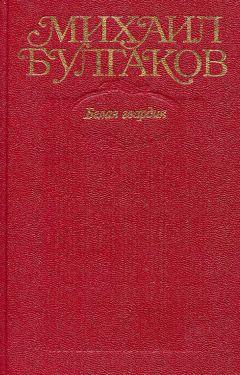Пироговскую я уже забыл. Верный знак, что там жилось неладно. Хотя было и много интересного.
У Коли не окончания, а начала (радикулит? Как это по-ученому называется?). Во всяком случае, ему стало легче. Но зато он стал несимпатичный. Рассказы рассказывает коротенькие и удивительно унылые — то как у кого-то жена захворала, а тот себе зубы вставляет, то у кого-то дом треснул. Надеюсь, что он поправится (Коля).
Собирается на юг ехать.
Мольер: ну, что ж, ну, репетируем. Но редко, медленно. И, скажу по секрету, смотрю на это мрачно. Люся без раздражения не может говорить о том, что театр проделал с этой пьесой. А для меня этот период волнений давно прошел. И, если бы не мысль о том, что нужна новая пьеса на сцене, чтобы дальше жить, я бы и перестал о нем думать. Пойдет — хорошо, не пойдет — не надо. Но работаю на этих редких репетициях много и азартно. Ничего не поделаешь со сценической кровью!
Но больше приходится работать над чужим. «Пиквикский клуб» репетируем на сцене. Но когда он пойдет и мне представится возможность дать тебе полюбоваться красной судейской мантией — не знаю. По-видимому, и эта пьеса застрянет. Судаков с «Грозой» ворвался на станцию, переломал все стрелки и пойдет впереди. «Гроза» нужна всем, как коту штаны, но тем не менее Судаков — выдающаяся личность. И если ты напишешь пьесу, мой совет — добивайся, чтобы ставил Судаков. Вслед за Судаковым рвется Мордвинов с Киршоном в руках. Я, кроме всего, занимаюсь с вокалистами мхатовскими к концерту и время от времени мажу, сценка за сценкой, комедию. Кого я этим тешу? Зачем? Никто мне этого не объяснит. Свою тоже буду любить.
Напиши мне, пожалуйста, еще из Ясной. Приятно увидеть твой конверт на столе среди конвертов, которые я вскрываю со скрежетом и бранью. Из-за границы, от красавцев, интересующихся моими пьесами.
Приедешь, послушаем цыганские вальсы. Кстати! Гитару удалось вырвать из когтей этого ... забыл... ну, который на спектакле?
Анне Ильинишне поцелуй руку и попроси ее поцеловать меня в лоб.
Люся передает вам искренний привет, а я тебя обнимаю.
Твой М.
Из Москвы в Барвиху
28 апреля 1934 года
Дорогой Павел!
Полагаю, что письмо еще застанет тебя в Ясной Поляне. Можешь еще одну главу прибавить — 97-ю под заглавием: о том, как из «Блаженства» ни черта не вышло.
25-го числа читал труппе Сатиры пьесу. Очень понравился всем первый акт и последний, но сцены в «Блаженстве» не приняли никак. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил. Теперь у меня большая забота. Думал сплавить пьесу с плеч и сейчас же приступить к «Мертвым душам» для кино. А теперь вопрос осложнился.
Я чувствую себя отвратительно в смысле здоровья.
Переутомлен окончательно. К первому августа во что бы то ни стало надо ликвидировать всякую работу и сделать антракт до конца сентября, иначе совершенно ясно, что следующий сезон я уже не буду в состоянии тянуть.
Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август — сентябрь. Давно уже мне грезились Средиземная волна и парижские музеи, и тихий отель, и никаких знакомых, и фонтан Мольера, и кафе, и, словом, возможность видеть все это. Давно уж с Люсей разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать! И вспомнил незабвенный Фрегат Паллады, и как Григорович вкатился в Париж лет восемьдесят назад! Ах, если б осуществилось! Тогда уж готовь новую главу — самую интересную.
Видел одного литератора как-то, побывавшего за границей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика, не вывез! Впечатление такое, как будто он проспал месяца два, затем этот берет купил и приехал.
Ни строки, ни фразы, ни мысли! О, незабвенный Гончаров! Где ты?
Очень прошу тебя никому пока об этом не говорить, решительно никому. Таинственности здесь нет никакой, но просто хочу себя оградить от дикой трескотни московских кумушек и кумовьев. Я не могу больше слышать о том, как треплют мою фамилию и обсуждают мои дела, которые решительно никого не касаются. На днях ворвалась одна особа, так она уж ушла, а мы с Люсей полчаса еще ее ругали. Она уж, может быть, у Мясницких ворот была и икала. Она спрашивала, сколько мы зарабатываем, и рассказала, сколько другие зарабатывают. Один, по ее словам, пятьсот тысяч в месяц. И что мы пьем и едим. И прочее. Чума! Народное бедствие! Никто мне не причинил столько неприятностей, сколько эти московские красавицы с их чертовым враньем! Просто не хочу, чтобы трепался такой важный вопрос, который для меня вопрос всего будущего, хотя бы и короткого, хотя бы уже и на вечере моей жизни! Итак, по-серьезному сообщаю: пока об этом только тебе. И, заметь, что и Коле я не говорил об этом и говорить не буду.
Ах, какие письма, Павел, я тебе буду писать! А, приехав осенью, обниму, но короткий хвостик покупать себе не буду. А равно также и короткие штаны до колен. А равно также и клетчатые чулки.
Ну, вот пока и все. Жду тебя в Москву. Надеюсь, что Анна Ильинишна поправилась. Передай от Люси и от меня ей привет.
Твой Михаил
Из Ленинграда в Москву
26 июня 1934 года
Астория, № 430
Дорогой Павел!
Прежде всего, колоссальное спасибо тебе за присылку «Блаженства». За это чем-нибудь тебе отслужу. До сих пор не мог тебе писать. После всего происшедшего не только я, но и хозяйка моя, к великому моему ужасу, расхворалась. Начались дьявольские мигрени, потом боль поползла дальше, бессонница и прочее. Обоим нам пришлось лечиться аккуратно и всерьез. Каждый день нам делают электризацию. И вот мы начинаем становиться на ноги.
Ну-с, здесь совершился пятисотый спектакль — это было двадцатого. Ознаменовался он тем, что Выборгский дом поднес Театру адрес, а Жене Калужскому — серебряный портсигар. Дело происходило при закрытом занавесе перед третьим актом. (Калужский был единственный, кто сыграл все 500 спектаклей без пропуска.)
Я получил два поздравления: одно из Москвы, а другое — от Сахновского как от заместителя директора. Оба меня очень обрадовали, потому что оба написаны тепло, нарядно.
И Немирович прислал поздравление Театру. Повертев его в руках, я убедился, что там нет ни одной буквы, которая бы относилась к автору. Полагаю, что хороший тон требует того, чтобы автора не упоминать. Раньше этого не знал, но я, очевидно, недостаточно светский человек.
Одно досадно, что, не спрашивая меня, театр послал ему благодарность, в том числе и от автора. Дорого бы дал, чтобы выдрать оттуда слово — автор.
Я тебя вспоминаю часто, Люся также. Надеюсь, что ты вполне и жив и здоров, работаешь.
Я пишу «Мертвые души» для экрана и привезу с собою готовую вещь. Потом начнется возня с «Блаженством». Ох, много у меня работы! Но в голове бродит моя Маргарита и кот, и полеты... Но я слаб и разбит еще. Правда, с каждым днем я крепну.
Все, что можно будет собрать в смысле силы за это лето, соберу.
Люся прозвала меня Капитаном Копейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, что она первоклассна.
Если тебя не затруднит, побывай у меня на квартире, глянь, что там творится. И время от времени звони нашей красавице (58-67).
Целую Анне Ильинишне ручку. Люся Вас обоих приветствует. Если напишешь, буду рад.
Твой Михаил
27 июня 1934 г.
Милый Патя,
прилагаю к письму две просьбы: позвони, ангел, Арбат, 3-59-69, найди (это номер кинофабрики) Илью Вениаминовича Вайсфельда и попроси его, чтобы он срочно прислал мне в Асторию адрес, по которому ему можно будет выслать мой сценарий и по которому я ему могу писать. Но добавь, что, возможно, сценарий я привезу и лично в начале июля. Адрес мне нужен на тот случай, если я задержусь. Скажи, что сценарий я уже заканчиваю.
Также мне нужно знать, сколько времени он и режиссер Пырьев будут в Москве.
Домашний телефон Вайсфельда: Арбат, 3-92-66. Есть еще второй служебный, точно его не помню, но кажется, что: Арбат, 1-89-34.
Вторая просьбишка: на квартире у меня должна быть телеграмма. Вскрой ее, сообщи содержание письмом.
Если будут письма, пусть лежат до моего возвращения, — если только среди них не обнаружишь по конверту чего-нибудь очень важного.
Если телеграмма — вскрывай и сообщай.
Обнимаю.
Твой М.
Из Ленинграда в Москву
6 июля 1934 года
Милый Павел,
спасибо тебе за хлопоты. Какой ты там нашел застаревший долг? Никакого долга за тобой я не помню, но что ты дал Фросе денег, это хорошо. Спасибо. Я сочтусь с тобой, как только приеду.
Здоровье — увы! — не совсем восстановилось, и, конечно, этого сразу не достигнешь. Но все-таки Елена Сергеевна чувствует себя гораздо лучше. Некоторая надежда есть и относительно меня. Уж очень хорош шок был!