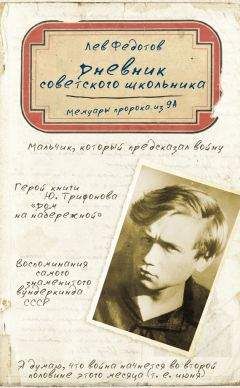Не успел я ввалиться домой, как ко мне явился Петя из породы Бутылкиных. Читатель, конечно, знает его. Я чуть было не обалдел от неожиданности: передо мной стоял загорелый, словно индеец, коренастый парень с белоснежными зубами, отчетливо выделявшимися на темно-коричневом фоне лица.
– Боже мой! Петька, что это с тобой?! – спросил я, пораженный до пределов. – Я тебя прямо-таки не узнал!
Он объяснил мне, что он работает сейчас в добровольной бригаде по смазке шпал креозотом и что они перевыполняют норму на 200 %, так как этим самым они помогают фронту. Пары криозота дьявольски едки, так что у всех у них, по словам Петьки, уже успели слезть «по семнадцать шкур», да этому еще способствовало палящее солнце. Этому я верил, так как сам своими очами видел, что сейчас на новой «восемнадцатой» Петькиной шкуре были видны остатки предыдущей «семнадцатой».
– Дерет он здорово! – говорил Петька, усаживаясь со мной на диване. – Раньше у меня все лицо, как в огне, горело, ну, а теперь ничего, привык.
Мы завели разговор о войне, и я от Пети узнал то, о чем догадывался: сила немцев была в их технике (в преобладании танков и самолетов), а у нас этих важнейших машин современной войны не хватало. Таким образом, пока еще брала верх не русская храбрость, а германская техника: немцы все же наступали!
– Далек еще перелом на фронте, – сказал я. – Ох, далек!
– Да, до него сейчас рукой не достанешь, – согласился Петя.
– Да, послушай, голубчик! – вспомнил вдруг я. – Когда же ты мне проявишь негативы моих рисунков? Обещал ведь!
– Вот как будет больше свободного времени, мы и займемся этим, – ответил он.
– Я уж прямо-таки не дождусь, – начал я уверять его. – Честное слово! Уж так мне хочется, наконец, увидеть свои детища на снимках! Какой, дескать, они имеют вид?! Интересно же мне это знать как автору.
Петя уехал домой, когда начало смеркаться и когда Москва постепенно посерела от наступающего вечера. Свет я зажечь не мог, да мне он и не нужен был: я был под властью впечатления разговора с Петей о войне. Тяжелые думы овладели мной. Я думал о фронте, и тяжесть на сердце заставляла меня все время спрашивать судьбу: «Когда? Когда же мы начнем наступать?!»
20-го июля. 17-го июля начался новый период в военной жизни нашей страны: были введены карточки на продукты питания. Это заставило нас с Мишкой проверить на деле действие новых документов. В тот же день мы с Михикусом отправились в наш магазин, где Стихиус без сожаления и пощады «прожег», как говорится, всю свою мясную карточку, добыв себе на ужин жалкую горсть сосисок.
– А это получайте обратно, как подарок, – ответила с нежной вежливостью коварная продавщица, возвращая Мишке один лишь корешок от карточки. Стихиус выругался и низвергнул на пол этот бренный остаток своего былого продовольственного документа.
– Вот дьявол! – сказал он мне. – Я уже до конца месяца, значит, обеспечен мясными продуктами? – И он взвесил на руке свое только что приобретенное богатство. Да ведь это мне и на сегодняшний вечер-то не хватит, черт подери!
– Терпи, – с философским спокойствием предложил я ему.
– Мошенники! – брякнул мне в ответ удрученный Мишка, и мы выплыли на улицу.
Однако мы знали, что теперь карточки будут нашими верными спутниками, по всей вероятности, не только до конца войны, а, может быть, и до определенного времени послевоенного восстановительного периода.
На следующий день (18-го числа), помню, я пошел к Мистихусу, но нам не удалось как следует провести время, так как с улицы послышались звуки сирен и заводских гудков, оповещающих город о близости фашистских самолетов. Короче говоря, была дневная тревога. Они нам уже изрядно надоели, так как мы не видели в них ничего путного, и в нас уже стала зарождаться привычность к ним, как к простым безобидным событиям.
Ругая немцев за беспокойства, мы тихо побрели вниз по лестнице, на которой были свидетелями всевозможных сцен покидания жильцами своих квартир. Деловой человек шел в убежище с книгой или портфелем, старушенция тащила туда котенка с бантиком на шее, домработница беспощадно волокла по ступеням хозяйских малышей, мы же шли только с носовыми платками, будучи свободными от всяких забот смертными.
Пережив тревогу в убежище и появившись вновь во дворе, мы от нечего делать принялись с серьезным видом считать этажи нашего дома.
– Слава богу! – сказал шутливо Мишка! – Немцы пощадили нашу хижину, все цело! А то я уж думал, что наш домик ниже стал этажей эдак на пять или шесть!
За эти дни ко мне как-то снова заглянул после работы Петя. Он вымылся в ванной, спустив с себя при помощи мочалки еще одну шкуру, которую привел в негодность кровожадный креозот, а затем я ему устроил пир, пожарив на сковородке ломти белого хлеба.
Вскоре пришла мама с работы, и мы все втроем, пока еще было довольно светло, поужинали в комнате моими сухарями с чаем.
Петя сказал мне, что хочет идти добровольцем на фронт, но его отстранили по здоровью. Я ему, конечно, посочувствовал, а затем поспешил успокоить тем, что придет время – мы все будем там!
21 июля. Вчера от Мишки я узнал о новом налете немцев на Смоленск.
Смоленск горел, напоминая собой огненный ад. Все это были результаты действий зажигательных фугасных бомб, сброшенных фашистами[116].
Эту ночь я провел у Бубы и утром рано пришел домой. Я с большим удовольствием прошелся по улицам, кипевшим и живым, так как прекрасная солнечная погода сильно украшала город, напоминая лучами солнца о красотах лета и изгоняя из головы мысли о настоящей войне.
Не успел я расположиться завтракать, как до моего слуха долетело какое-то подозрительное завывание с улицы. Я пошел в комнату и включил радио. Так и есть! Я услыхал каменный, невозмутимый голос диктора:
– Граждане, воздушная трев… – «А, ч-ч-черт!» – мысленно выругался я, выдернув вилку из розетки.
– Даже пожрать честным людям не дают, живодеры! – сказал я вслух, имея в виду германских летчиков, приближающихся к Москве.
Я был совершенно спокоен, тревога на меня панически вообще не действовала, так что я все же решил утянуть со стола кусок белого хлеба с маслом и глотнуть горячего чая для заправки – остальное я оставил на после, решив окончить завтрак после тревоги. Хотя я знал, что во время тревоги требуется широко открывать окна, чтобы взрывные волны воздуха от возможных действий бомб не поражали стекол, я плотно решил закрыть их, так как не мечтал о налете, а, следовательно, и о бомбах.
Я позвонил Мишке, и мы уговорились встретиться с ним в убежище под 15-м подъездом.
Выходя во двор, я видел, как испуганные няньки хватали с земли игравших малышей и галопом скакали к дверям убежища.
– Вот уж малышей-то не нужно вообще сейчас в городе, раз он рискует быть атакованным врагом с воздуха, – сказал я самому себе.
В убежище мы с Мишкой встретились с кое-какими ребятами со двора, в том числе и с Олегом, приехавшим с дачи, и мы за разговорами не заметили, как прошло время, а вскоре дежурный, проходя по коридорам, оповестил всех собравшихся об отбое тревоги.
Мы покружили немного по двору, а затем я отправился домой с твердым намерением доконать остатки завтрака. Это я и сделал со всей доблестью!
22-го июля. Ну, а сегодняшняя ночь, очевидно, врезалась в мою память надолго!
Ровно месяц прошел с начала войны, и этот юбилей в московской жизни отметился знаменательным в эту ночь событием для всего города – это было несчастье для Москвы: на ее улицы упали первые вражеские бомбы, а ее воздух впервые содрогнулся от их оглушительных разрывов. Да, то была первая бомбардировка нашей Красной Москвы, первая бомбардировка за все ее существование![117]
В ожидании прихода своей родительницы из театра, где она вчера вечером и кончала свой рабочий день, я, пользуясь вечерними сумерками, забрался, как обычно, на окно в кухне и занавесил его одеялом, после чего зажег синий свет и состряпал себе ужин, который состоял из чая и хлеба с маслом. Все это я перетащил в комнату на письменный стол, где и решил разделаться со всем содержимым чашки и тарелки. Окна комнаты мы не занавешивали, так как нам по вечерам в ней все равно ничего путного делать не нужно было, поэтому я принялся за ужин в темноте, но зато при наличии радио, которое в тот момент о чем-то гремело. Черт его знает, что там передавали! Кажется, какую-то литературную передачу.
Не успел я войти во вкус, как радио внезапно замолчало… Я знал, что это значит, и поэтому стал усиленными темпами вбивать в свою глотку хлеб и пить чай: мне ведь вовсе не хотелось, чтобы тревога, о которой сейчас скажут по радио, не дала мне возможности полностью насладиться трапезой!
К вечернему небу Москвы уже взлетали тревожные сигналы сирены, а по радио вслед за внезапно наступившей тишиной последовали словесные троекратные сигналы о воздушной тревоге.