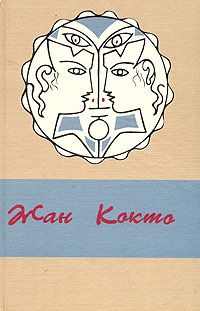Поэт волен сойти с научных рельсов. Отбросить всевозможные «к чему». Можно с почтением относиться к техническим наукам и с подозрением — к собственным цифрам. Составляют ли четыре два и два? Сомневаюсь, если я складываю две лампы и два кресла. Со времен Гераклита и до Эйнштейна накопилось достаточно ошибок, чтобы утверждать, что в познании нашего мира современная наука не намного ушла вперед по сравнению с древними, которые утверждали, что мир стоит на слоне.
Чем короче становится мой путь, тем легче для меня мысль о смерти, тем больше она кажется мне возвращением к естественному нулевому состоянию, в котором я находился до рождения. Если над нами свершится высший суд — а мне кажется, что идея «до» и «после» происходит от нашего бессилия, — то нас уже судили в том жерле, что было до, и будут снова судить в том, что будет после. Мы ничего не можем изменить нашими действиями, порожденными каким-нибудь порывом ветра, срывающим сухие листья. Человеческий суд очень быстро занял место высшего суда вообще. Достаточно увидеть, с каким бесстыдством судящие меняют свои воззрения, чтобы понять, почему я обвиняю в кощунстве земных судей, вершащих судьбы человеческих душ.
Люблю я тех, кем я любим,
А прочих — нет, но им не враг.
И миру всех желаю благ
И власти Разума над ним.[65]
Шарль Орлеанский
Странствие, совершаемое нами между жизнью и смертью, было бы для меня невыносимо без дружеских связей.
Любовь также относится к области приказов, которые дает нам природа. По своей расточительности она злоупотребляет наслаждением любовного акта, толкающим живые существа друг к другу, но этим обеспечивает надежность своего царствования. Иногда она делает это вроде бы нехотя, хотя стерильная любовь гарантирует ей экономичность. Человеческие законы называют пороком ту величайшую осторожность, с которой природа избегает перенаселения. В то время как истинная дружба является творением человека. Величайшим из всех.
Единственной моей политикой была политика дружбы. Весьма непростая программа для эпохи, в которую политика как таковая разделяет людей, и так что можно прочесть где-нибудь, что девятая симфония Бетховена — гимн коммунизму. Беречь дружеские связи считают соглашательством. Вас настоятельно зовут либо в один, либо в другой лагерь. От вас требуют порвать сердечные узы если они тянутся к обеим сторонам баррикады. И все же, мне кажется, что все мы принадлежим к партии ищущих друг друга одиночеств. Такая политика теперь не в чести. Воззрения уничтожают чувства, и верность, если мнения расходятся, выглядит как атавизм. Что до меня, то я упорствую в своей политике, и пусть уж лучше меня ругают за сердечное постоянство, чем за систему идей.
К несчастью, силы, о которых я пишу, против некоторых дружеских привязанностей, захватывающих нас и препятствующих воздействию этих сил тем, что отвлекают нас от работы. Видимо, поэтому так длинен список моих потерь, поэтому меня лишили друзей, скрашивавших мое странствие. Уж лучше соблюдать в отношениях осторожность. Как бы ни велика была моя склонность ставить дружеский долг превыше моей основной задачи, я ей противлюсь, опасаясь, как бы все не началось снова, и меня бы опять не наказали за то, что я пожертвовал одиночеством, чтобы служить друзьям.
Дружба — не инстинкт, а искусство, более того, искусство, требующее постоянного контроля, поэтому существует много недоверчивых, которые ищут в дружбе мотивов, движущих ими самими. Они ищут сексуальный интерес или выгоду. Общество возмущается, если друзья спасают нас от его ловушек, и заключает, что они поступают так корысти ради. Бескорыстие кажется подозрительным, это пустой звук. Бескорыстие похвально только у животных. У них оно представляется триумфом рабской преданности. И вот рождаются трогательные истории и высказывания типа «животные лучше нас». Известна одна история про служебную собаку из Биаррица, которая, будучи в наморднике и видя, что ее маленький хозяин тонет на глазах беспомощной няньки, позвала на помощь собаку без намордника и заставила ее спасти ребенка.
Один пудель каждый день встречал на вокзале провинциального городка своего хозяина. Случилось так, что в Париже хозяин неожиданно умер, но пудель продолжал его ждать. Прошло несколько недель, и пудель тоже умер. Жители этого городка поставили пуделю памятник, выразив свое удивление.
Памятник пуделю меня, разумеется, трогает. Я люблю животных и знаю, чему они нас учат. Но правит ими не то искусство, о котором я говорю. Животные привязываются к человеку, который их ласкает или бьет. Человек наделяет животных красивыми качествами, чтобы сделать красивее себя самого. У каждого есть собственное замечательное животное. Это порождает взаимное ослепление.
Дружбе свойственна прозорливость. Она допускает недостатки, которые не желает видеть любовь. Поэтому дружба животных по сути своей — любовь. Животные нас боготворят и не стремятся исправлять наши недостатки, мужественно исправляя свои, ни избавляться от своих недостатков, чтобы подать нам пример, — что является верхом дружеского искусства.
Памятник пуделю — то же, что памятник Тристану. Это не памятник Пиладу.
* * *
Истинной дружбе не ведомы ссоры, — если только размах ссоры не выдаст чувства, заходящего в область любви и повторяющего ее бури.
В дружбе между Ницше и Вагнером Вагнер сыграл незавидную роль. Требовательность Ницше не находила удовлетворения, поэтому разрыв отношений и упреки заключали в себе всю справедливость и несправедливость страсти. Эта грандиозная ссора была любовной в том смысле, что Ницше хотел, чтобы Вагнер превратился в его собственность. А Вагнер желал подчинить себе Ницше. Только Ницше пытался перенести в духовную область сплетение тел, в котором возлюбленные ищут слиться, растворившись в едином крике. Различие их сущности проявилось в Байрёйте, когда Вагнер отказался подписывать манифест Ницше о сборе средств, упрекнув его в недостаточно внятном призыве.
Роль, которую сыграл Ницше, ярче всего свидетельствует об одиночестве души, не удовлетворенной любовью, ведущей к браку. Эта душевная страсть обращена, увы, к женской натуре, которую влечет не буря, а суетный мир. Письмо Пеги к Даниэлю Алеви{262} (граф Виктор-Мари Гюго{263}) и вагнеровский случай дают нам два удивительных образчика любовных признаний. Малейший упрек свидетельствует о страсти, его диктующей.
Я думаю о том, не следует ли видеть в случае с Ницше и Вагнером еще одно доказательство холодной и злобной ревности работы. Не являются ли эти двое одной из тех пар, у которых невидимое не терпит вторжения мешающих ему сил и уподобляется человеку, не способному выносить вид чьего-нибудь взаимного согласия, делающего его собственное присутствие ненужным. Потому что, когда между двумя бурными личностями рождается дружба, то редко бывает, чтобы буря дохнула только однажды. Ее дыхание раздваивается, и возникает опасность, что одно из них пересилит, а другое окажется в подчинении. Вот тогда дружба принимает форму любви и начинает бороться не только со своими микробами, но и с внешними обстоятельствами, ей угрожающими.
Истинная дружба развивается в ином регистре. Я называю ее искусством, потому что она ищет и сомневается, то и дело вносит поправки и хранит мир, избегая любовных войн.
Возможно, когда я стал жертвой дружбы, мои друзья также стали ее жертвами, потому что я вышел за пределы регистра. Хотя в целом, мне кажется, наши работы с дружбой мирятся. Они ее используют.
В ней они видят способ закабалить нас полнее, потому что дружба подталкивает нас к испытаниям очень ответственным, она убеждает нас, что мы работаем ради того, чтобы стать достойными наших друзей. Но этот способ не срабатывает, когда дружба превышает свои права, когда к одному подчинению добавляется другое, которое оттесняет нашу тьму и мешает ее поглощенности собой. Страстность «Тристана и Изольды» объясняется страстью, которую Вагнер испытывал к той, что его вдохновляла, но, кроме того, его страстью к собственной персоне. Произведение свидетельствует порой о том, что его творец составляет с кем-то или чем-то пару, что эту чудовищную пару снедает страсть, и что лихорадка внешнего происхождения — только ширма, скрывающая невидимое.
* * *
Опыт сделал меня изощренным в искусстве дружбы и в тех муках, на которые оно нас обрекает. Встречи, с которых начинается весь церемониал, не должны быть страстью с первого взгляда, но скрупулезным исследованием душ.
Нельзя же устраивать дома склад взрывчатки.
Только дружба может найти взгляд или простые слова, чтобы залечить наши раны, — раны, которые мы сами бередим с ожесточенностью больных, знающих, что они неизлечимы и ищущих спасения в боли, доведенной до предела. Сила, равноценная нашей, не может излечить эти раны — лишь покинуть нас или последовать за нами в крайности, чтобы сгинуть там с нами вместе.