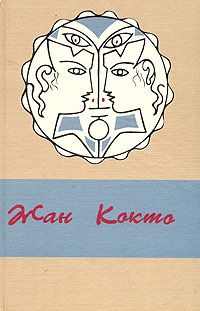Описание живых картин
I В Фивы однажды ночью явилась чума
По эстраде, слева направо, перед тремя молодыми фивянами, которых изображает один актер, держащий в вытянутых руках две маски, проходит огромная чума с гигантской, круглой, бледно-зеленой микробьей головой. Слева, с краю, большая реалистичная луна передвигает тюлевую тень, слева направо, и молодой человек в центре, бросив обе маски поворачивается к чуме. Он подходит к ней, преклоняет колени приветствует ее и с крюка на ее длинной, задрапированной красной тканью руки снимает маску-череп, которую надевает себе на лицо. Он направляется влево, внезапно содрогается, падает, дугообразно сгибается и, обмякнув, затихает. Тогда другой молодой человек выходит из лунного механизма по левой лестнице, поднимается по правой, видит чуму, склоняется, снимает с крюка на ее левой, задрапированной черным, руке маску-череп и надевает ее, содрогается. Занавес.
II Печаль Афины
Занавес поднимается и открывает два бледно-голубых шита, на которых линией (зеркально и друг напротив друга) нарисованы палладии, состоящие из семерки, четверки, нуля, единицы и начала цифры 3. Эти панно снаружи держат два человека с черными лошадиными головами и хвостами. Из колосников спускается небесно-голубой фронтон, на котором нарисован глаз, но между основанием этого треугольника и верхом щитов остается промежуток. Когда фронтон замирает, по центральной лестнице, ведущей сзади к образовавшемуся проему — или храму, — поднимается Афина, останавливается на цоколе. У нее голова зеленого кузнечика, на голове — шлем с зеленым гребнем. В правой руке — копье, в левой — зеленый шит, на котором крестообразный рельеф изображает лик Медузы. Щит обрамлен подвижными, извивающимися змеями. На месте глаз — американская пружина. Пружина и то, что качается на ее конце, слегка загибаются вниз.
Лбом Афина опирается на копье (левый профиль), ногу поставила на другой черный цоколь. Затем она поворачивает голову и показывает правый профиль. Потом замирает анфас, поднимает левую руку и закрывает лицо шитом. Лик Медузы становится ее лицом. Занавес.
III Оракулы
Занавес поднимается, предстают три персонажа. В центре, стоя на невидимом кубе, возвышается Тиресий, облаченный в желтое платье и черное пальто. У него три головы. Одна в фас, две в профиль. Оба профиля покоятся на плечах актера. Слева от него, спиной к публике, стоит Эдип Справа, тоже спиной, Иокаста. У Эдипа яйцевидная голова. Голова Иокасты — в форме эллипса. Они поворачиваются лицом к зрителю. Черные руки Тиресия сложены на груди, слева и справа от центральной маски. Иокаста, а за ней Эдип, вытягивают белые ленты изо рта профилей Тиресия. Потом расходятся вправо и влево. Когда они доходят до правого и левого краев сцены, ленты выскальзывают изо рта тени, и они их подбирают одной рукой (правой — Эдип, левой — Иокаста). Они размахивают ими, потом складывают — Эдип на сердце, Иокаста — на животе. Затем они их роняют и разводят пустые руки в стороны. Тиресий складывает свои руки в исходное положение. Занавес.
IV Сфинкс
Поднявшийся занавес открывает длинную низкую стену красно-коричневого цвета, на которой начерчены зигзагообразные линии, черные, с белым рельефом. Справа и слева, у оконечностей стены, стоят два человека с шакальими головами. Около левого шакала — Сфинкс, его видно в профиль, он повернут к шакалу справа. Актер передвигается задом наперед. Маска (голова и грудь) надета у него на спине и на затылке. Его вытянутые руки спрятаны под крыльями, белыми на конце. На левом бедре — птичий хвост, который видно, когда он поднимает колено. Сфинкс расправляет висящие крылья, тянет их вверх. Крылья вибрируют. Он медленно ими машет и направляется к правой оконечности стены так, что ноги актера за стеной незаметны. Там он останавливается, поднимает левое колено, трепещет крыльями. Занавес.
V Комплекс Эдипа
Занавес поднимается над группой из трех актеров в черных трико. Двое из них стоят на одном колене, вытянув вторую ногу. На них маски полумесяцев, черные профили вырисовываются на светло-голубом фоне. Полумесяцы соединяются таким образом, что образуют полную луну. Позади, возвышаясь на кубе, стоит третий актер в маске, изображающей глазной зрачок, взятый в белый рыбообразный каркас. Руки актера сложены крестом на груди и держат темно-синюю ткань, скрывающую тело. Он отпускает ткань. Мгновенно полумесяцы отрываются друг от друга, и актеры, их изображающие, расходятся вправо и влево. Они поворачиваются на 180 градусов и показывают другой профиль. Приняв положение анфас, они вместе с центральным актером исполняют движения, которые состоят в начертании на воздухе цифр 1, 3, 4, 7. На актерах белые перчатки. Центральная фигура заканчивает движения на цифре 0. Занавес.
VI Три Иокасты
Поднявшийся занавес открывает пустую эстраду и, справа от центральной лестницы, собаку, изображаемую двумя актерами: один стоит, на нем шакалья маска, другой согнулся и обхватил первого за талию. Длинный черный хвост довершает силуэт. Третий актер поднимается по центральной лестнице, держа на руках манекен, изображающий мертвое тело Иокасты (матери). Актер видит собаку, отступает, поворачивается и убегает вниз по лестнице. Повесившаяся Иокаста (жена), спускается с колосников на конце красного шарфа, обмотанного вокруг ее шеи. Правая ладонь звездообразно раскрыта и прижата к животу. Складки ткани приоткрывают ступню. Почти одновременно свободный актер появляется на правой лестнице. Он несет большую голову Иокасты (королевы). Рот у нее открыт, и из этого рта тянется длинная полоса красной материи. Собака начинает двигаться влево, за ней идет актер, несущий голову. Собака, актер и красная ткань образуют процессию, проходящую у ног свисающего манекена. Занавес падает.
VII Эдип со своими дочерьми
Поднявшийся занавес открывает на левой и правой оконечностях эстрады двух актеров в черном трико, вооруженных приспособлениями, похожими на снаряжение стекольщика, к которым приделаны маски хора. На центральной лестнице появляется огромная маска ослепшего Эдипа. Потом он появляется во весь рост и останавливается. Его руки лежат на яйцевидных головах его дочерей. Под каждым яйцом висит платьице, одно бледно-сиреневое, другое — бледно-голубое. Эдип становится на колени, прижимая дочерей к груди. К нему подходят хоры и отбирают у него дочерей. Они удаляются. Эдип встает. Левой рукой он делает умоляющий жест. Правый хор возвращается к Эдипу и отдает ему дочь под левую руку. Тогда Эдип поворачивается вокруг своей оси, и дочь переходит из положения слева в положение справа. Зрителю видны только Эдипова спина в черном пальто, его шевелюра, красные пучки его глаз и голова-яйцо с китайской прядкой: Антигона. Группа ступает на лестницу, уходит вниз. В это время опускается занавес.
Что касается последнего явления, такого странного и вызывающего, мы опасались смеха в зале. Но публика, потрясенная, ужаснувшаяся, была точно в столбняке. Только потому, что в собственном стиле я дошел до крайности, в зале все время царила мертвая тишина, сменившаяся потом овацией: мы выиграли партию. Оркестром дирижировала тень Стравинского, и это добавляло зрелищу торжественности. Бессмысленно обижаться на журналистов, увидевших в нашем представлении лишь кривляние и карикатуру, если даже Шарль Моррас называет истуканами доисторические маски в музее Акрополя.
Задник представлял собой огромное полотно (в нем преобладали серый, сиреневый, бежевый, горчичный), в основу которого лег один из моих рисунков к «Адской машине». Слепой Эдип и Иокаста на изломанной формы ступенях.
Путешественник упал замертво, пораженный красотой увиденного.
Макс Жакоб
Нужно решиться наконец это сказать в силу необычности самого факта: Греция есть идея, которая постоянно рождается в головах и под небом, располагающим к фантазиям такого рода настолько, что спрашиваешь себя, а существует ли Греция на самом деле, существуем ли мы, путешествуя по Греции, существуют ли все ее острова и Афины, где в воздухе носится перец перечных растений, не сказка ли все это — то есть не явь ли, очевидная и мертвая, как, например, Паллада или Нептун. Мы задаем себе эти вопросы, а сами карабкаемся, точно козы, по останкам царей, забальзамированных пахучими бессмертниками, которые перед грозой издают целый букет ароматов, таких же живых и таких же мертвых, как тот возничий, что шагает, не передвигая ног, и смотрит сквозь века своим взглядом, белым как трость слепцов. Это идея: сформированная, разрушенная, бессмертная и смертная, подобная бессмертникам, сохнущим на солнце вокруг пещеры, в которой пророчествовала сивилла, в то время как перед ее дверью воскресные посетители толпились в ожидании своей очереди. Идея настолько неотступная, что упрямо стоит на месте, подобно вознице, и смотрит на нас невидящим оком. Это око идеи открывается повсюду — и в Дельфах, знаменитых своим погибшим театром, и на Крите — там мы едва не заблудились в открытом лабиринте Кносса, где прячутся идеи красного быка и пчел, — как о том свидетельствуют ульи в холмах и талии принцев и принцесс, безжалостно раздавленных о стены и кровавые колонны. И вулканический остров Санторин, белым ручейком струящийся по вершинам гор из застывшей лавы. И еще одна идея — та, которую нашептывает, наборматывает себе море, сбиваясь, — и можно принести в жертву собственную дочь, лишь бы только заставить море замолчать, не качать своими бормотанием корабль, который не более чем идея корабля и лучше, чем по морю, ходит по той реке, где герои — лишь тени самих себя. А в идее адского царства идеи мужчин и женщин сочетаются браком, сливаются в соитии, плодятся, и потомством своим загромождают нашу память. Вот эта идея безумца, одна из тех, что медицина пытается лечить в клиниках, окруженных парком и заселенных путешественниками вроде нас. Вот эта недосягаемая Греция. Мы проникаем в нее через какую-нибудь расщелину или пещеру, чтобы найти пса Цербера, которого потерял хозяин, заставивший Геракла разыскивать и красть для него апельсины, и чистить Авгиевы конюшни, и осушать лернейские болота; и вдруг все это превращается в собаку о трех головах, в лернейскую гидру, в реки, которые надо повернуть вспять, в золотые яблоки — и во все это веришь, потому что уста, рассказывающие все это, никогда не лгут, и начинаешь винить во лжи Историю, которая является не идеей, но чередой мертвых действий, расставленных на театральном помосте. Нам пришлось свыкнуться с этой идеей, потому что мы были внутри нее, слитые с ней, мы были самой идеей, и она составляла нашу сущность. Как выбраться оттуда, не оставив, подобно Одиссею, приросшему к своему креслу, частицу самого себя? Казалось, это невозможно, потому что ветры дули нам навстречу, препятствуя нашему бегству. Да что я говорю? Это была идея ветра, напоминающая юных сыновей Борея, которые, не в силах более выслушивать охотничьи истории Геракла, бросили его на острове, а он стал звать своего юного друга таким голосом, что нимфы, утопившие его, не выдержали и заткнули себе уши. Это уже другая идея, которая превратилась в идею Одиссея и привела в изумление идею поющих сирен. Великие боги, что же делать, как вырваться из этого круга? А вдруг сейчас появится ангел, дующий в свою трубу, и идея его трубы уничтожит наш сон и перевернет земную ось. Он уже устроил такое в день похорон короля Ахаза{271}, а потом исчез, утерев губы. Потому что ангел был идеей, готовой исчезнуть, как только ее прогонит другая идея, и все это неспроста, потому что прогнавшая его идея была идеей бедствия, о котором сказано в Библии. А святому Иоанну пришла на ум идея проглотить это бедствие в виде книги. Все происходило на острове Патмос, но нас не посетила идея отправиться туда, потому что эта идея витала в воздухе.