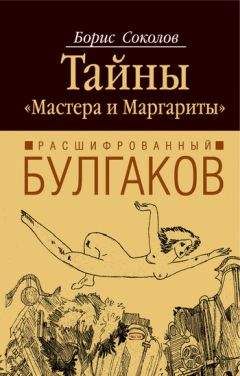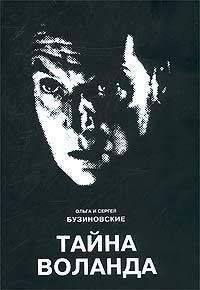– Да что! Я ничего против не имею. Вот Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал – и интонационно.) Это мне нравится!
Тихонов мне это рассказывал в Ташкенте в 1942 году, и в Москве после эвакуации я встретила его около МХАТа (этот разговор Сталина с Максимом Горьким (А. М. Пешковым) и Тихоновым насчет Николая Робертовича Эрдмана и Булгакова происходил осенью 1931 года, когда шла безуспешная борьба за постановку «Самоубийцы»)».
Л. Е. Белозерская в своих мемуарах «О, мед воспоминаний» (1969) несколько иначе излагает знаменитый разговор Сталина с Булгаковым: «Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).
На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел…» Он предложил Булгакову:
– Может быть, вы хотите уехать за границу?..
Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе».
Отметим, что вариант разговора, цитируемый Л. Е. Белозерской, близок ко второй версии рассказа Е. С. Булгаковой, приведенной в ее интервью радиостанции «Родина» в 1967 году: «…Сталин сказал: «Мы получили с товарищами ваше письмо, и вы будете иметь по нему благоприятный результат. – Потом, помолчав секунду, добавил: – Что, может быть, вас правда отпустить за границу, мы вам очень надоели?»
Это был неожиданный вопрос. Но Михаил Афанасьевич быстро ответил: «Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может». Сталин сказал: «Я тоже так думаю. Ну что же тогда, поступите в театр?» – «Да, я хотел бы». – «В какой же?» – «В Художественный. Но меня не принимают там». Сталин сказал: «Вы подайте еще раз заявление. Я думаю, что вас примут».
Через полчаса, наверное, раздался звонок из Художественного театра. Михаила Афанасьевича пригласили на работу».
Есть еще одно примечательное свидетельство, относящееся к телефонному диалогу Сталин – Булгаков. Оно принадлежит американскому дипломату Чарльзу Боолену, в 30-е годы работавшему секретарем в посольстве США в Москве и подружившемуся с опальным писателем. В своих мемуарах «Свидетельство перед историей, 1929–1969» (1973) Боолен писал о Булгакове: «В конечном счете пьесы были запрещены, писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок, и голос в трубке сказал: «Товарищ Сталин хочет говорить с вами». Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых, и, ответив соответствующим образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал: «Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин». Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть Родину, и Булгаков объяснил, что, поскольку он профессиональный драматург, но не может работать в этом качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему: «Не действуйте поспешно. Мы кое-что уладим». Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский Художественный театр, а одна из его пьес, «Дни Турбиных», отличная революционная пьеса, была вновь поставлена на сцене того же театра». Отметим, что друг и соавтор Н. Р. Эрдмана по сценариям Михаил Давыдович Волыган, которому Булгаков тоже рассказал о памятном разговоре, как и Боолен, свидетельствует, что «сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова, и ему сказали: «Не вешайте трубку», – и повторили: С вами будет говорить Сталин». И тут же раздался голос абонента, и почти сразу последовал вопрос: «Что – мы вам очень надоели?».
Подчеркнем, что ни Ч. Боолен, ни Л. Е. Белозерская ничего не говорят о прямо высказанном пожелании Сталина встретиться с писателем для беседы. Не исключено, что слова диктатора о возможной встрече родились в рассказе Е. С. Булгаковой под влиянием последующих булгаковских писем Сталину. Так, в черновике письма от 30 мая 1931 года, сохранившемся в архиве писателя, Булгаков признавался: «…Хочу сказать вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: «Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу…» Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Следует подчеркнуть, что до звонка Сталина Булгаков неоднократно был жертвой розыгрышей, в которых так или иначе фигурировал генсек. Иной раз он очень удачно превращал эти розыгрыши в веселые устные рассказы с теми же действующими лицами. Журналист «Гудка» Иван Семенович Овчинников вспоминал: «Михаил Афанасьевич рассказывает:
– А на днях какие-то лоботрясы разыграли меня по телефону. Беру трубку – слышу мужской голос: «Товарищ Булгаков?» – «Булгаков, – говорю, – что угодно?» – «Спешим вас обрадовать и поздравить. На вашей улице начинается большой праздник. Знаем из самых надежных источников. Товарищ Сталин пишет большую статью о советском либерализме. Статья директивная. Ею открывается полоса советского либерализма!» – «Как это, – говорю, – понимать, и как это все может коснуться моей-то персоны?» – «Ну, как понимать? Издадут полное собрание ваших сочинений! Разрешат вам выпускать большую либеральную газету! Нравится?» Я было уже и уши развесил. «Конечно, – отвечаю, – нравится. А кто, – спрашиваю, – со мной разговаривает?» И тут из трубки как грохнет вдруг хохот – сразу в четыре глотки: «Михаил Афанасьевич, сегодня же первое апреля! Забыли?» И опять хохот: «Го-го-го! Ха-ха-ха!» Бросил я трубку, обозвал хулиганов негодяями, а сам и до сих пор все не могу никак успокоиться. Так все и стучит в ушах: «Советский либерализм… Советский либерализм». А перед глазами большая беспартийная газета вроде «Русских ведомостей». В уме уже и штаты начал подбирать… Вам, конечно, церковный отдел. Вон вы какие статьи закатываете!..
В связи с православной Пасхой «Гудок» как раз только что напечатал несколько моих антирелигиозных опусов: «Христос и колядка», «Кулич и пасха», «Религия против женщины» и другие…»
Однако некоторое время спустя на прямо поставленный вопрос, правду ли он говорил, Булгаков признался: «То, что меня с первым апреля разыграли по телефону, это верно. А вот тема разговора была совсем, совсем другая».
Для того чтобы так шутить, надо было обладать большой смелостью. За публичное объявление себя либералом и критику антирелигиозных статей можно было попасть в концлагерь.
Стоит отметить, что американский журналист Юджин Лайонс, в 1928–1934 годах находившийся в Москве в качестве корреспондента агентства «Юнайтед Пресс», зафиксировал любопытный случай полемики с булгаковским письмом Сталину от 28 марта 1930 года. В мемуарной книге «Наши секретные союзники. Народы России» (1953) Лайонс писал: «Весной 1931 года Борис Пильняк, над которым всего несколько лет назад сгущались грозные политические тучи, получил визу для заграничного путешествия. Это стало литературной сенсацией сезона. Вставал молчаливый вопрос, готов ли писатель вернуться в Советский Союз. Однажды вечером в Нью-Йорке я задал ему этот вопрос. «Нет, – ответил Пильняк задумчиво. – Я должен ехать домой. Вне России я чувствую себя, словно рыба, вынутая из воды. Я просто не могу писать и даже ясно думать нигде, кроме как на русской почве». Пильняк, как кажется, полемизировал с булгаковским тезисом о свободе печати, необходимой писателю так же, как рыбе необходима вода, о свободе слова как естественной среде обитания для литературы. Булгаков в определенный момент готов был предпочесть тяготы эмиграции молчанию и нищете на родине. Пильняк же пошел на компромисс с властью, чтобы иметь возможность печататься в СССР, но это не спасло его от гибели в эпоху «большого террора».
5 мая 1930 года Булгаков написал Сталину: «Я не позволил бы себе беспокоить вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность. Я прошу вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется». Последовавшее 10 мая зачисление во МХАТ драматург наверняка связывал с этим обращением и потому был особо благодарен Сталину. Булгаков не знал, что вопрос о нем был решен гораздо раньше. Еще 12 апреля 1930 года на копии булгаковского письма, направленного в ОГПУ, фактический глава этого ведомства Г. Г. Ягода оставил лаконичную резолюцию: «Надо дать возможность работать, где он хочет». А 25 апреля вопрос с Булгаковым был положительно решен на Политбюро, после чего дорога для поступления на службу во МХАТ была открыта.