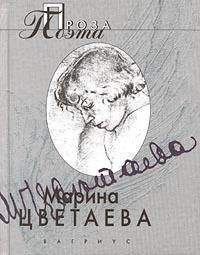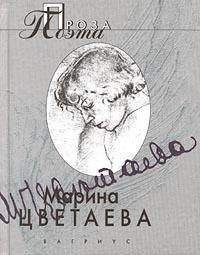(Лицом уже из моих колен:)
— Марина! Знаете мой самый большой подвиг? Еще больше, чем с тем красным носом (шарманщиком), потому что не сделать еще куда трудней, чем сделать: что я тогда, после «Метели», все- таки не поцеловала вам руку! Не рабство, нет, не страх глаз, — страх вас, Марина, страх вас разом потерять, или разом заполучить (какое гнусное слово! заполучить, приобрести, завоевать — все гнусное!), или разом — наоборот, страх — вас, Марина, ну, Божий страх, то, что называется — Божий страх, нет, еще не то: страх — повернуть ключ, проглотить яд — и что‑то начнется, чего уж потом не остановить… Страх сделать то, Марина! «Сезам, откройся!» Марина, и забыть обратное слово! И никогда уже не выйти из той горы… Быть заживо, погребенной в той горе… Которая на тебя еще и обрушится…
И просто — страх вашего страха, Марина. Откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая: слово, и дело, и мысль одно, и сразу, одновременно, так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только… какая‑то электрическая молния!
Так о «Метели»: когда я услышала, ушами услышала:
— Князь, что сон — или грех?
— Бедный испуганный птенчик!
— Первая я —раньше всех! —
Ваш услыхала бубенчик!
Вот это первая — и раньше, с этим ударением, как я бы сказала, у меня изо рта вынутое — Марина! У меня внутри — все задрожало, живьем задрожало, вы будете смеяться — весь живот и весь пищевод, все те самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел, — точно у меня внутри — от горла и вниз до колен — сплошь жемчуга, и они вдруг — все — ожили.
И вот, Марина, так любя ваши стихи, я бе — зумно, безумно, безнадежно, безобразно, позорно, люблю — плохие. О, совсем плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь!) и не Апухтина (за «Очи черные»!), а такие, Марина, которых никто не писал и все — знают. Стихи из «Чтеца — декламатора», Марина, теперь поняли?
Ее в грязи он подобрал,
Чтоб угождать ей — красть он стал.
Она в довольстве утопала
И над безумцем хохотала.
Он из тюрьмы ее молил:
Я без тебя душой изныл!
Она на тройке пролетала
И над безумцем хохотала.
И в конце концов — его отвезли в больницу, и —
Он умирал. Она плясала,
Пила вино и хохотала.
(О, я бы ее убила!) И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, она
— Но, может быть, это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, потому что я такого никогда не видела: чтобы за гробом шли — и хохотали, — а вы?
Но вы, может быть, думаете, это— плохие? Тогда слушайте. О, Господи, забыла! забыла! забыла! забыла, как начинается, только помню — как кончается!
А граф был демонски — хорош!
А я впотьмах точила нож, —
А граф был демонски — хорош!
Стойте, стойте, стойте!
Взметнулась красная штора:
В его объятиях — сестра!
Тут она их обоих убивает, и вот, в последнем куплете, сестра лежит с оскаленным страшным лицом, и — граф был демонски- хорош!
А «бледно — палевую розу» — знаете? Он встречает ее в парке, а может быть в церкви, и ей шестнадцать лет, и она в белом платье…
И бледно — палевая роза
Дрожала на груди твоей.
Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане, с военными, и вдруг она его видит!
В твоих глазах дрожали слезы,
Кричала ты: «Вина! скорей!»
И бледно — палевая роза
Дрожала на груди твоей.
Дни проходили чередою,
В забвеньи я искал отрад,
И вот опять передо мною
Блеснул твой прежний милый взгляд
Тебя семьи объяла проза,
Ты шла в толпе своих детей,
И бледно — палевая роза
Дрожала на груди твоей.
А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу, и видит:
В твоих глазах застыли слезы…
— и потом уж не знаю что на ей —
И бледно — палевая роза
Дрожала на груди твоей.
Дрожала, понимаете, на недышащей груди! А— безумно люблю: и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледнопалевую розу, и могилу.
Но это еще не все, Марина. Это еще — как‑то — сносно, потому что все‑таки — грустно. А есть совсем глупости, которые я безумно люблю. Вы это знаете?
Родилась,
Крестилась,
Женилась,
Благословилась.
Родила.
Крестила,
Женила,
Благословила —
Умерла.
Вот и вся — женская жизнь!
А это вы знаете?
Перо мое писало Не знаю для кого…
Я:
— А сердце подсказало:
Для друг а моего.
Сонечка:
— Дарю тебе собачку,
Прошу ее любить,
Она тебя научит,
Как друга полюбить.
— Любить — полюбить — разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу — непременно гусиное, все изгрызанное, а собачка, Марина, с вьющимися ушами, серебряно — шоколадная, с вот — вот заплачущими глазами: у меня самой бывают такие глаза.
Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я — се- риозно говорю. (С вызовом:) — Лю — би — ме — е ваших.
Крутится, вертится шар голубой,
Шар голубо — ой, побудь ты со мной!
Крутится, вертится, хочет упасть,
Ка — валер ба — рыш — ню хочет украсть!
Нет, Марина! не могу! я это вам — спою!
(Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом, подойдя и становясь надо мной:)
— Теперь скажите, Марина, вы это — понимаете? Меня, такую, можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это (закрытые глаза) просто — блаженство. (Речитативом, как спящая:) — Шар — в синеве — крутится, воздушный шар Монгольфьер, в сетке из синего шелку, а сам — голубой, и небо — голубое, и тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем! А шар от взляда начинает еще больше вертеться и вот — вот упадет, и все монгольфьеры погибнут! И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром…
Ка — ва — лер ба — рыш — ню хочет украсть!
Что к этому прибавить?
— А вот еще это, Сонечка:
Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги…
Все тут нам. кроме барышни — и шара. Но шар, Сонечка, — земной, а от барышни он идет. Она уже позади, кончилась. Он ее уже украл и потом увидел, что — незачем было.
Сонечка, ревниво:
— Почему?
Я:
— А потому, что это был — поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было иметь.
— А если бы эго я была — он бы тоже ушел?
— Нет, Сонечка.
— О, Марина! Как я люблю боль! Даже — простую головную! Потому что зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы, и я иногда плакать готова, что у меня никогда не болели зубы, — говорят, такая чу — удная боль: ну — удная!
— Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу не сглазить, чертовка! Вы Malibran знаете?
— Нет.
— Певица.
— Она умерла?
— Около ста лет назад, и молодая. Ну, вот Мюссе написал ей стихи «Stances a la Malibran»[190] — слушайте:
(И меняя на Сонечку некоторые слова:)
…Ne savais tu done pas, comedienne imprudente,
Que ces cries insenses qui sortaient de ton coeur De ta joue amaigrie augmentaient la chaleur?
Ne savais‑tu done pas que sur ta tempe ardente Ta main de jour en jour se posait plus brulante,
Et que e’est tenter Dieu que d’aimer la douleur?[191]
…Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 года, на океане, в полный разгар Сонечкиного писания, я взяла в местной лавке «Souvenirs», одновременно и библиотеке, годовой том журнала «Lectures» —1 1867 года— и первое, что я увидела: Ernest Legouve «Soixante ans de souvenirs— La Malibran» (о которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе).
«Quoi qu’elle tfltj’image meme de la vie et que 1 ’enchantement put passer pour un des traits dominants de son caractere, 1 ’idee de la mort lui etait toujours presente. Elle disait toujours qu’elle mourrait jeune. Parfois comme si elle eut senti tout a coup je ne sais quel souffle glace, comme si l’ombre de l’autre nionde se fut projetee dans son ame, elle tombait dans d’affreux acces de melancolie et son coeur se noyait dans un deluge de larmes. J’ai la sous les yeux ces mots ecrits de sa main: — Venez me voir tout de suite! J’etouffe de sanglots! Toutes les idees funebres sont a mon chevet et la mort— a leur tete…»[192]
— Что это, как не живая Сонечкина «записочка»?
Встречи были — каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела — еще остаться, последняя остаться, но так как это было бы — не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе — настаивала.