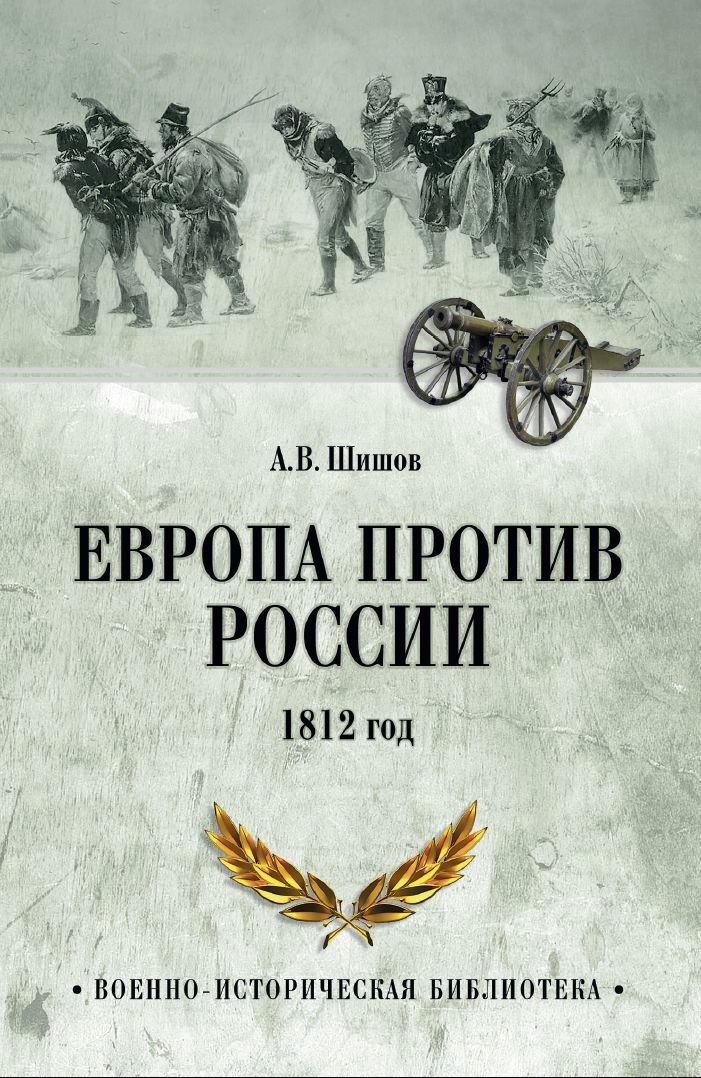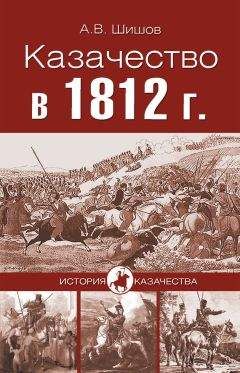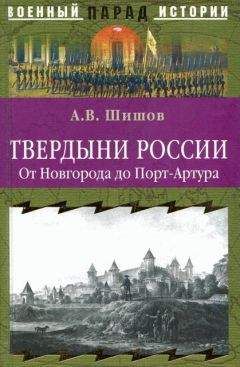в этом отношении, следующее.
…24‑го впереди Бородинской позиции близ Шевардинского редута я поддерживал с четырьмя батальонами 27 дивизию; мы потеряли там довольно много народу.
В день главного сражения на меня была возложена оборона редута первой линии на левом фланге, и мы должны были выдержать первую и жестокую атаку 5–6 французских дивизий, которые одновременно были брошены против этого пункта; более 200 орудий действовали против нас. Сопротивление не могло быть продолжительным, но оно кончилось, так сказать, с окончанием существования моей дивизии.
Находясь лично в центре и видя, что один из редутов на моем левом фланге потерян, я взял батальон 2‑й гренадерской дивизии и повел его в штыки, чтобы вернуть редут обратно. Там я был ранен, а этот батальон почти уничтожен. Было почти 8 часов утра, и мне выпала судьба быть первым в длинном списке генералов, выбывших из строя в этот ужасный день.
Мой дежурный штаб-офицер Дунаев заменил меня, а мой адъютант Соколовский отправился за последним находившимся в резерве батальоном, чтобы его поддержать. Он был убит, а Дунаев тяжело ранен. Два редута потеряны и снова отняты обратно.
Час спустя дивизия не существовала. Из 4‑х тысяч человек приблизительно на вечерней перекличке оказалось менее 300, из 18‑и штаб-офицеров оставалось только 3, из которых, кажется, только один не был хотя бы легко ранен. Эта горсть храбрецов не могла уже оставаться отдельной частью, и была распределена по разным полкам.
Вот все, что я могу сказать о себе лично и о моей дивизии по отношению кампании 1812 года. Мы не совершили в ней великих дел, но в наших рядах не было ни беглецов, ни сдавшихся в плен. Если бы на следующий день меня могли спросить, где моя дивизия, я ответил бы, как граф Фуэнтес при Рокруа, указав пальцем назначенное нам место: «Вот она».
(Из воспоминаний графа Воронцова // В. Харкевич. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вып. I. Вильна, 1900.)
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ш. ФРАНСУА, КАПИТАНА 30‑го ЛИНЕЙНОГО ПОЛКА 1‑го ПЕХОТНОГО КОРПУСА
В 8 часов утра пушечный выстрел гвардейской артиллерии являлся сигналом начала боя. 120 жерл начали действовать с нашего правого фланга. Наш полк спускается в овраг и взбирается по другую его сторону по линии сражения: трудный, утомительный путь, особенно когда гранаты разрываются над нашими головами и несут смерть в наши ряды. Пока мы маршируем, все другие части армии производят свое движение.
В 8 часов наш полк взобрался на холм и перешел Колочу, маленькую речку, впадающую в Москву-реку и отделяющую нас от русских. Не доходя на 10 футов до уровня равнины, скрытой гребнем оврага, мы строимся в боевую линию и генерал Моран ведет нас на большую неприятельскую батарею.
Объезжая линию, чтобы ободрить солдат, генерал подъезжает к моему отряду и, видя, что я серьезно ранен, говорит мне: «Капитан, вы не можите идти, отойдите к страже знамени».
Я отвечаю: «Генерал, этот день слишком привлекателен для меня: я хочу разделить несомненную славу полка». – «Узнаю вас», – сказал генерал, пожимая мне руку, и продолжал объезд боевой линии среди сыпавшихся со всех сторон ядер.
Наш полк получает приказ идти вперед. Мы достигаем гребня оврага и уже находимся на расстоянии половины ружейного выстрела от русской батареи. Она осыпает нас картечью, ей помогают несколько прикрывающих ее батарей, но мы не останавливаемся. Я, несмотря на раненую ногу, скачу, как и мои стрелки, перескакивая через ядра, которые катятся среди наших рядов. Целые ряды, полувзводы падают от неприятельского огня, оставляя пустые пространства. Стоящий во главе 30‑го (полка) генерал Бонами приказывает нам остановиться и под пулями выстраивает нас, а затем мы снова идем.
Русская линия хочет нас остановить; в 30 шагах от нее мы открываем огонь и проходим. Мы бросаемся к редуту, взбираемся туда через амбразуры, я вхожу туда в ту самую минуту, как только что выстрелили из одного орудия. Русские артиллеристы бьют нас банниками, рычагами. Мы вступаем с ними в рукопашную и наталкиваемся на страшных противников.
Много французов вперемежку с русскими падает в волчьи ямы. Я защищаюсь от артиллеристов саблей и убиваю нескольких из них. Солдаты были до того разгорячены, что перешли редут шагов на 50. Но другие полки, имевшие свои схватки с русскими, не последовали за нами, и нам помогает только один батальон 13‑го легкого.
Мы вынуждены отступить и пройти через редут русскую линию, успевшую оправиться, и через волчьи ямы. Полк наш разгромлен. Мы снова строимся позади редута, все под пулями неприятеля, и пытаемся сделать вторую атаку, но без поддержки нас слишком мало, чтобы иметь успех.
Мы отступаем, имея 11 офицеров и 257 солдат – остальные убиты или ранены. Храбрый генерал Бонами, все время сражавшийся во главе полка, остался в редуте: он получил 15 ран и взят русскими в плен.
Я участвовал не в одной кампании, но никогда еще не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми солдатами, как русские. Вид мой был ужасен: пуля сорвала с меня кивер, полы моего платья остались в руках русских солдат во время моей рукопашной схватки с ними, повсюду у меня были ссадины, а рана моей левой ноги причиняла мне сильные страдания.
После нескольких минут отдыха на площадке, где мы снова выстраиваемся, я ослабел от потери крови и падаю без сознания. Мои стрелки приводят меня в чувство и относят в госпиталь, где в то время перевязывали раненного в подбородок генерала Морана. Он узнает меня, пожимает мне руку и, когда перевязка его сделана, делает знак хирургу, чтобы он оказал мне помощь. Подходит доктор, исследует мою рану, – «счастливое поранение», говорит он, и вынимает осколки.
Затем, наложив повязку, он велит мне отправиться в госпиталь в Колоцкий монастырь, где собраны тысячи раненых, но среди них из 30‑го мало: они остались в редуте. Я вхожу в палату: 27 офицеров полка, из них 5 ампутированных, лежат на соломе или на полу и нуждаются решительно во всем. В госпитале находится с лишком 10 000 раненых, ими полны все помещения монастыря.
Мой верный солдат, уцелевший среди резни, идет вечером на поле сражения, чтобы отыскать меня; товарищи говорят ему, что я в госпитале, и он является туда, ведя моих лошадей. Ему и нескольким моим товарищам обязан я своей жизнью, они так энергично добывали для меня пищу. Я платил за яйцо 4 франка, за 1 фунт говядины – 6 франков и за трехфунтовый хлеб – 15 франков. К счастью, у