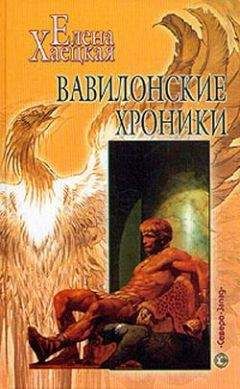Елена Хаецкая
Вавилонские хроники
Особая благодарность моим вдохновителям – Владимиру Хаецкому и Григорию Жаркову.
Автор
* * *
Я ненавижу рабство. Когда в Вавилоне были выборы, я голосовал за мэра-аболициониста. Он, конечно, еще худший вор, чем тот, кого все-таки избрали, но зато он обещал отменить рабство.
И рабов я тоже ненавижу…
…А вам бы хотелось, чтобы по вашему малогабаритному жилью слонялось чужое существо, бестолковое и нерадивое?
Я – рабовладелец. Разумеется, не своей волей. Раба мне всучили любящие родители.
Родители много хорошего сделали для меня. Во-первых, конечно, они меня зачали и потрудились выносить и выродить. За это я им сердечно благодарен. Особенно матушке.
Потом они дали мне хорошее образование. Его как раз хватает для того, чтобы работать там, где я сейчас работаю, но о работе после.
Затем они не позволили мне жениться на девушке, в которую я было влюбился в семнадцать лет. Поэтому я свободен и счастлив.
Был. Пока они не озаботились повесить мне на шею раба.
* * *
Наутро после тридцать первого дня моего рождения я лежал, насмерть разбитый похмельем.
В дверь позвонили. Решил не открывать. На опохмелку денег не было, а остальное меня не занимало.
У двери звонили долго, настырно. И скреблись, и копошились. Я, недвижный, злобился. Одна особо злокозненная пружина впивалась мне в ребра, но я даже не шевелился. Знал: стоит повернуться, и диван подо мной завопит на разные голоса.
Стоящий под дверью начал стучать.
Я был уверен, что явились из жилконторы. По поводу неуплаты за квартиру. Я злостный неплательщик, меня дважды пытались выселить.
У двери потоптались. Чем-то пошуршали, звякнули. Потом, после паузы, еще раз аккуратно постучали.
Да ну их совсем.
– Кто там? – гаркнул я, не поднимая головы с подушки.
– Господин Даян дома? – спросил незнакомый мужской голос.
– Я дома, – сипло сказал я. – Пшел вон.
– Господин Даян! – крикнули из-за двери. Вежливо, даже жалобно как будто. – Откройте! Меня прислала ваша высокочтимая матушка… То есть, по ее поручению…
Я сел на диване. Мне было невыносимо.
– У тебя деньги есть, ты?
– Немного. Мне выдали, когда к вам направляли…
Я пал с дивана на четвереньки. Покачал головой, попытался встать, но не смог. Если бы я встал, то все равно бы упал.
Уподобившись четвероногому скоту и отчаянно стуча мослами, я двинулся к двери.
Там ждали.
Я выпрямился, стоя на коленях и цепляясь руками за стену.
– Сичас, – сказал я.
За дверью понимающе сопели и топтались. Я откинул крючок, отодвинул засов и выпал из квартиры вместе с дверью, распахнувшейся под моей тяжестью.
Выпав, я оказался в объятиях широкоплечего детины. Он подхватил меня сильными руками и прижал к груди. Потом сжал за плечи и осторожно утвердил меня в вертикальном положении.
Я рыгнул ему в лицо – не нарочно. Он стерпел.
Посланец матушки был приблизительно моих лет. Верхняя губа пухлого рта оперена черной щетинкой, темные глаза глядят из-под широких бровей.
– Господин Даян… – в третий или четвертый раз повторил он.
Меня зовут Даян. Это древнее и славное вавилонское имя. Нужно ли говорить, что уже в детском дошкольном учреждении мое имя переделали в «Баяна», да так и повелось. Я и не сопротивлялся.
– Слушай, ты, – сказал я детине. – Сколько у тебя денег, а?
У него оказалось три сикля. На противопохмельные колеса хватит. Если брать не самые дорогие.
– Брат, – сказал я проникновенно и взял его за руку. – Дуй в аптеку…
И объяснил, зачем.
Он внес меня в квартиру, помог улечься на диван, подал воды и ушел в аптеку. Я бессильно смотрел на дверь, которую он забыл за собой закрыть, и терзался от сквозняка.
Детина вернулся через час. Объяснил, что искал аптеку.
Вместе с ним притащилась вечно беременная серая кошка, жившая в нашем подвале.
Предки кошки были породистыми голубыми тварями из храма Исет, а эта была плодом любви священной храмовой кошки с каким-то безродным полосатым сердцеедом.
Каждые два месяца Плод Любви исправно наводняла двор маленькими плодами своей любви. Любила она много и разнообразно. Что, естественно, отражалось на плодах.
Детина выпихнул кошку, незлобиво поддев ее ногой под брюхо, и захлопнул дверь.
– Давай, – сказал я, слабо барахтаясь на диване.
Он подал мне таблетку, растворив ее в воде. Таблетка шипела и плясала. У нее был мрачный, средневековый вид. Именно так травили королей в одном историко-приключенческом сериале.
Я выпил, отдал стакан и лег, закрыв глаза, – ждать, пока полегчает. Детина громоздился надо мной.
Я открыл глаза.
– Слушай, – сказал я детине, – а кто ты такой? А?..
Вот тут и открылась страшная правда.
– Ваш раб, господин, – сказал детина.
– У меня нет рабов, – сказал я. – У меня принципиально не может быть рабов. Я аболиционист.
– Ваша высокочтимая матушка так и говорила – ну, этому, на бирже… Как их? Агенту, – поведал детина. – Мол, мой сын против рабства, но хочу сделать ему подарок… От материнского подарка, мол, не откажется… У него, мол, – ну, у вас то есть, – в квартире не хватает хозяйской руки…
Так. У меня в квартире не хватает хозяйской руки. Поэтому мне не позволили жениться, а вместо того подсунули чужого человека, чтобы он сделался этой самой хозяйской рукой в моем доме… Подсунули, пользуясь моей сегодняшней слабостью. В другой день я просто спустил бы его с лестницы. А сегодня я мог только одно: расслабленно стонать.
Естественно, я сразу же возненавидел своего раба.
Все в нем было противное. И брови эти его широкие, блестящие, будто маслом намазанные. И щетина над губой. И ямка в пухлом подбородке.
– Уйди, – сказал я.
Он растерялся.
– Куда я пойду, господин?
– Куда-нибудь, – пояснил я. – Чтобы я тебя не видел.
И заснул.
Я проснулся, когда уже стемнело. Во рту было гадко, но голова не болела и острая невыносимость оставила плоть.
Я осторожно сел. Очень хотелось пить. И еще глодало ощущение какого-то несчастья, которое постигло меня в те часы, пока я спал. Что-то в моей жизни изменилось к худшему.
Вот в углу что-то зашевелилось… Сполз с кресла старый вытертый плед. Из-под пледа протянулась и коснулась пола босая нога. Нога была толстая, как фонарный столб, белая, густо поросшая волосом.
Раб!
– Пить хочу, – сказал я грубо.
Он поморгал сонно, завернулся в плед и пошлепал на кухню. Его пятки приклеивались к недавно отлакированному паркету.
Пока я пил, он скромно стоял в сторонке. Я отдал ему стакан и сказал: