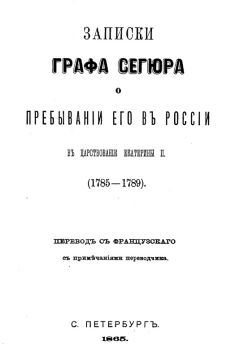А если учесть, что пространство-время многомерно, то можно понять, что мы лишь отдаленно и очень поверхностно можем приблизиться к постижению этой теории. Что уж говорить о ее полном понимании! Более того, как только мы начинаем хотя бы приблизительно понимать, как и что «работает» во Вселенной, обязательно происходит новое «открытие», которое опять повергает научный мир в состояние шока. Последние мозговые прорывы ведущих гениев науки привели к тому, что ученые стали склоняться к предположению, что подобные «спайки» могут соединять не только две точки одной поверхности, пусть и изогнутой, но и точки в разных измерениях.
Фантасты первыми стали использовать подобные «вормхолы» и для путешествий в другие миры, и для «перелета» в другие галактики. Правда, бесстрашные астронавты использовали «червоточины» достаточно узко: в основном для покорения необъятных просторов Вселенной, то есть всего лишь перемещаясь по «полотну» Пространства. Хотя ничто в принципе не мешает использовать такой же портал и для перемещения во времени!
Человеческому сознанию, историческое развитие которого происходило в системе трех координат, многомерную картину мироздания представить до конца вряд ли удастся. Но отдельные ее части вообразить все же можно. Особенно человеку современному, увлекающемуся физикой и имеющему элементарные задатки пространственного воображения. Воспринял же человеческий мозг понятие «четвертого» измерения, коим является время. И произошло это совершенно незаметно. И вот мы, сами того не замечая, уже ежедневно пользуемся четверичной системой координат. Назначаем свидание в доме, находящемся на пересечении таких-то двух улиц, – вот вам первые две координаты «плоских» шкал Х и Y. Дальше добавляем, что надо подняться в квартиру такую-то, скажем, на четвертом этаже, – вверх поползла шкала третьего измерения, шкала «высоты» Z. «А ждать мы вас будем в час дня», – уточняем мы, не осознавая, что только что добавили четвертую координату, или «четвертое» измерение. И не замечаем тоже не случайно. Координата эта не линейна и поэтому кажется нам условной, потому что его, это «измерение», нельзя изобразить на бумаге, а значит, и представить. Но с точки зрения физики условностей не бывает, или, точнее, всякая условность немедленно приобретает свои физические параметры. Так произошло и со временем.
В общем, до понимания того, что любая точка в пространстве движется еще и во времени, и что пространство таким образом со временем неразрывно «спаяно», и одно не может существовать без другого, было уже рукой подать.
Глава вторая
«Аглицкий дохтур»
1787 год. Ак-Мечеть. Постоялый двор
Нельзя сказать, чтобы Емельян Егоров отличался какой-то особой сообразительностью. Верностью делу и службе – безусловно. Честностью – несомненно. Но каких-либо других качеств, которые помогли бы ему продвинуться по службе, не проявил. Именно поэтому он в свои почти сорок лет прочно застрял в фельдфебельской должности и сержантском звании. И это его вполне устраивало. Дураком и простофилей его, кстати, тоже никто не называл. И не потому, что обидчиков могли остановить косая сажень в плечах и богатырский рост Емельяна Савельевича, из-за которых он и угодил в свое время в привилегированный Измайловский полк, а просто потому, что он таковым не был. Ведь не всем же, в конце концов, за чинами гоняться да «карьер» строить. Кому-то надо и служить, то есть честно выполнять порученное дело.
Можно сказать, что Егоров был образцовым солдатом. С инициативами не лез, но и в кустах не прятался. Другими словами, честно тянул свою солдатскую лямку. Хотя, конечно, служба, которая выпала на его долю, научила его многому. Шутка ли сказать, последнюю русско-турецкую кампанию, победоносную, прошагал от первого дня до последнего, как говорится, «от трубы до трубы»! «Тут тебе, брат ты мой, такая школа жизни, какую никакими умными книгами не возьмешь, – любил говаривать Емельян и всегда добавлял: – Храни Господь его сиятельство, фельдмаршала нашего, Суворова Александра Васильевича, на долгия годы!»
Погрузившись в воспоминания, Егоров размашисто перекрестился. Сослуживцы его, подпрапорщик Григорьев и рядовой Хресков, входившие в конвой, посланный сопровождать раненого Резанова, трусили по бокам обоза. Хресков на ходу дремал, а Григорьев, заметив жест Егорова, озорно подмигнул.
– Чё, Емельян Савелич, никак нечистый привиделся? – придурковато хихикнул он.
– Сам ты нечистый, Григорьев! Будя чертей-то средь бела дня поминать! Смотри, накличешь беду! – И Егоров озабоченно покосился на поручика, который белый как снег неподвижно лежал на мешках в телеге.
Фельдшер Макшаллан, приставленный Роджерсоном смотреть за Резановым, неподвижно сидел рядом с раненым и тупо глядел в сторону, на однообразный степной пейзаж. Маклашка, так его прозвали в полку солдаты, будучи, как и Роджерсон, британского «замесу», русский знал плохо, потому по большей части молчал.
«Да… чтоб вы тут мне ни говорили, а все хуже нашему Николаю Петровичу! Это я вам как на духу скажу!»
Ясное дело, что подобные монологи Егоров произносил про себя, вслух высказываться он не мог, да и не спрашивал никто его мнения.
«Как щепу-то из бока у поручика-то достали, да как Роджерсон-то ему отвара дал, так хоть и не в себе были-с их благородие, а прям так и зарумянились, Николай Петрович-то. А рану-то перевязали, да кровь-то как остановили, так и в себя пришли-с даже, поручик-то наш. Да тут, на беду, Роджерсон Маклашку энтого приставил! А он, вот ей-ей, не почудилось мне это, злым зельем их благородие потчует! От меня ить ничего не укроется!» – репетировал сержант в уме свой рапорт, который решил направить не кому-нибудь, а самому Потемкину. «Светлейший-то британцев не сильно жалует в отличие от матушки-то…»
И действительно, по непонятным причинам Резанову ни с того ни с сего становилось все хуже и хуже. Опять послали за Роджерсоном. Прибыв, лейб-медик сразу же накинулся на Макшаллана с вопросами. Особо уследить за тем, что именно он спрашивал, не было никакой возможности, так как два англичанина сразу же заговорили по-своему, но часто повторяемое слово «инфекшин»[7] было понятно. Инфекция она и есть инфекция, на каком языке ни говори. И слово это было встречено всеобщим унынием. Хоть Резанов и был в полку новичком, но относились к нему, особенно младшие по званию, с уважением. Пусть не от мира сего – что правда, то правда, – но офицер знающий, глотку на солдатскую братию понапрасну не драл да и рукам волю не давал, как другие. В общем, служить было можно. Что болезный какой-то, заботный, так то Егоров сразу узрел. Что-то точило его изнутри. Егоров таких офицеров редко, но встречал. Причин тут могло быть две: либо страдал офицерик, потому как не в силах был привыкнуть к лямке солдатской, либо слишком быстро вверх шагнуть хотел.
«А тут ведь, брат ты мой, можно и порты порвать, ежели шибко широко ступать-то!» – резонно замечал про себя Егоров. Короче, что именно мучило молодого поручика, он определить не мог, а теперь вот, похоже, и не сможет…
Было понятно, что в таком состоянии Резанов далее продолжать путь не способен, а потому приняли решение отправить его на подводе назад в Симферополь, приставив к нему охрану и доктора. Медиком послали, конечно, Маклашку, а кого еще? Не сам же Роджерсон, оставив императрицу, поедет! Ну а в конвой Егоров напросился. Уж больно жаль ему было молодого офицера.
И вот теперь Егоров хмуро поглядывал на несчастного Резанова, которому становилось все хуже и хуже, на доктора, отрешенно смотревшего в сторону, и горько думал о том, что, пожалуй, и до Симферополя Николай Петрович может не дотянуть.
Вот тут-то он и принял решение остановиться на одном из ближайших постоялых дворов, которые перед въездом в город стали попадаться все чаще.
Ткнув, что называется, пальцем в небо, Егоров, на удачу, попал даже не на постоялый двор, а в целую усадьбу. Судя по количеству прислуги, заведение было на подъеме. Подвода, окруженная лейб-гвардейцами, естественно, привлекла к себе всеобщее внимание. Жизнь на постоялом дворе замерла. Все застыли кто с чем, пялясь на неожиданных гостей. Навстречу Егорову выкатился сам хозяин в широченных синих запорожских шароварах. На голове его красовалась красная турецкая феска. По толстой и лоснящейся роже определить его национальную принадлежность не представлялось никакой возможности. Черные, висящие почти до груди усы, как у запорожцев, в ту эпоху почему-то страстно возлюбили почти все южные народы. И турки, и греки, и валахи, и вахкцы, и караимы, и армяне, и черт те кто еще, включая цыган! Поэтому особо задумываться над этим вопросом Егоров не стал, а, приосанившись и придав себе как можно более грозного виду, что в общем-то было уже излишним, натянул поводья коня.