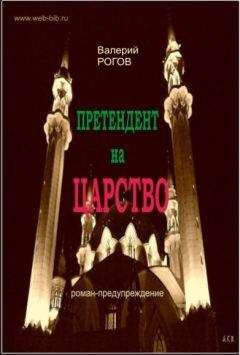Круглость её шла от корявых останков гигантского дуба. Я прошагал по диагонали метровым шагом — и моя дурашливая весёлость как испарилась. Боже мой, пять с половиной метров! Это что же такое? Я знал четырёхсотлетние дубы в три мужских обхвата и диагонально в два с половиной шага. Выходит, эти видимые останки принадлежали тысячелетнему исполину…
Я трогал окаменевшие, обгоревшие (кому-то неймётся их выжечь, а они не горят!), упрямо торчащие неисчезающим кругом гигантского ствола — тысячелетнего! Быть не может! — потрясённо думал я. — Ведь если так, то тогда это реальные древеса из времен Владимира Мономаха или даже Владимира Святого. А может быть, и ранее — из языческих времён! Сколько же тогда людей, сколько поколений перебывало на этом месте? А если представить их всех собравшимися? Вот уж невероятность! Однако… Ведь будут похожи и ликом, и статью друг на друга… И говорить будут на всем нам понятном языке!..
Неужели такое возможно — воскресение из мёртвых? Неужели, хотя бы мысленно, можно встретиться со всеми нашими предками? Из всех веков! Неужели так просто для Всевышнего — и жизнь, и смерть, и воскрешение? Неужели и такое может произойти вот в этой, в нашей реальности — ощутимой, видимой?..
Тысячелетний дуб!..
О, Господи, сколько же ещё загадок, сколько тайн Ты хранишь от нас? Сколько же необъяснимого, непознанного ещё существует вокруг? И как же, Господи, порой удивляешь, а, вернее, пугаешь нас?
Да разве мог я предвидеть, разве мог представить, что набреду на останки тысячелетия, — всей нашей истории, вживе увижу саму Вечность?!
III
В бывшем когда-то селе Винстернском, в нынешних Гольцах, я уткнулся в мощную краснокирпичную стену. Тянулась она с полкилометра и являла собой часть замкнутого прямоугольника. Хотя и была наполовину разобрана, с проломами, однако в сохранившейся первозданности громоздилась повыше человеческого роста, а толщиной — и пушечным ядром не прошибёшь! Крепостная! А за ней, за этой сторожевой защитой, словно спустившееся на землю облако, блистало, благоухало бело-розовое яблоневое цветение.
Я свернул на обочину, вышел из машины. Заворожено смотрел в пробоину — старые корявые стволы под кипенным, с малиновыми закраинами облаком и бледно-зелёная трава, усеянная нежнейшими, будто фарфоровыми лепестками. Захотелось по-мальчишески поваляться на таком чудесном покрове, беспричинно смеясь, но сдержал себя, лишь опустился на колени, зачерпнул горсть невесомых лепестков, а потом сдул их с ладони, как плеяду майских бабочек. Было чудесно и радостно, будто детство вернулось.
Затем самым старательным образом принялся выискивать каменные останки барского дома, но нигде ничего не находил. Я был в полном недоумении. В те восхитительные минуты мне почему-то казалось, что только среди яблоневого благоухания и мог возвышаться дом с мезонином и колоннами…
Напротив, через дорогу, отступив метров на сто, тянулось порядье краснокирпичных домов, одинаковых, похоже, дореволюционных, а, может быть, ещё из девятнадцатого века, из эпохи земских реформ, — под черепичными, замшелыми крышами. Из одного из них вышла женщина в черном ажурном платке, конец которого туго обматывал шею. Хотя и была она в трауре, но нетерпение узнать хоть каплю о необычном яблоневом саде толкнуло меня к ней.
Издалека по её стройной фигуре я предположил, что она не старше сорока лет, но вблизи увидел усталую, пожилую женщину, которая, казалось, навеки погрузилась в свои горести. Я смутился. Она внимательно, настороженно в меня вглядывалась, и наконец едва уловимая улыбка коснулась её, затянутых пеленой печали, глаз, бескровных пепельных губ. «Вы хотите что-то спросить?» — произнесла она ровным, благожелательным голосом. Я согласно кивнул и объяснил своё недоумение.
— Это действительно старинный княжеский сад, — подтвердила она, — но не думайте, что каменные стены сооружены от воров. Они воздвигнуты для того, чтобы ледяные зимние ветры не вымораживали деревья. Такие заградительные сооружения делаются в Англии, а управляющие у князей Голицыных, как правило, были англичане.
Она говорила чуть нараспев, спокойным, нравоучительным тоном, в той неизбывной привычке объяснять убедительно и доходчиво, какая присуща учителям, особенно младших классов.
— Сейчас в саду около двадцати сортов яблонь, — продолжала она, — но, к сожалению, яблокам не дают вызревать. А при Голицыных было более ста сортов, и никто, даже детвора, не лазил в сад. Наверное, оттого, что князья отличались добротой и ежегодно одаривали детишек яблоками, а их родителям давали саженцы. Наше село долго славилось яблоневыми садами.
— А сейчас не славится? — поинтересовался я.
— Сейчас?.. Нет, не славится, — отвечала она в грустной рассеянности. — Сейчас оно ничем не славится. Школу закрыли… И больницу тоже, прошлой осенью… Местных жителей по пальцам пересчитаешь. Только к лету Гольцы наполняются дачниками, а зимой — пустыня. Вот и меня дочь зовёт в Рязань… после смерти мужа, — пояснила она, тяжко вздохнув. — А мне не хочется. Здесь всё родное.
— Скажите, вы знаете, что ваше село когда-то именовалось Винстернским? Когда здесь управляющим был англичанин Джон Возгрин?
— Ой, не знаю, — ожила, удивившись, она. — Разве так называлось? На английский манэр? — Это слово, произнесенное вычурно, с «э» оборотным, невольно заставило меня улыбнуться, а она смутилась, продолжала торопливо, сбиваясь, совсем не по-учительски. — Ах, если бы… да, если бы была жива Дарья Фёдоровна… наша старейшая учительница. Вот она всё знала о Голицыных… вам бы её расспросить, но, к сожалению, она умерла… Ой, что я говорю? Да-да, она умерла вскоре после моего мужа, и они покоятся рядом на Троицком кладбище… Ой, я совсем запуталась. Простите, я, пожалуй, пойду. Сегодня день его рождения; мы всегда были вместе, — прошептала она, опустив голову.
— Я могу вас подвезти.
— Ой, зачем же? Я и сама дойду.
— Но мне это ничего не стоит.
— Ну хорошо, спасибо, — согласилась она.
Пока мы шли к машине, я спросил, где всё же располагался барский дом? Она приостановилась и вдруг пронзительно взглянула мне прямо в глаза.
— А вы сами-то случайно не из Голицыных?
— Нет, никоим образом, — отвечал я, ошарашенный вопросом, но тут же выпалил: мол, занимаюсь небольшим историческим расследованием.
Мы представились друг другу. Её звали Наталья Дмитриевна Ловчева, и, как я предполагал, она оказалась учительницей начальной школы, правда, уже на пенсии.
IV
По дороге на Троицкое кладбище — по названию церкви, которой давно уже нет, — тянувшейся из Дубровки вдоль закраин Гольцов по обрывистой, высоченной гряде, соединяющей два взгорья, выступающие вперёд, ближе к Оке: Княжеское и Троицкое, Наталья Дмитриевна поясняла мне с горьким упрёком, что барский дом сожгли ещё в революцию, после гибели первого коммунара, знаменитого Семёна Силкина, который, как утверждают, охранял Ленина в Смольном и потому, как заслуженный большевик, был отправлен на родину, чтобы создать коммуну в имении князей Голицыных.
— А в красном Петрограде, — говорила она, — Силкин прославился тем, что донёс на княжну Софью и на сестру милосердия Мотю, которую приютила княжна. Их обеих взяли в заложницы, и они навсегда исчезли в ЧК. Он, этот несносный Семён, и здесь, в Гольцах, прославился: донёс на соседского помещика, полковника Лосева, которого растерзали в Городце Мещерском. Тоже чекисты. Но и его самого, то есть Силкина, потом покарали. В общем, память о нём недобрая.
— И как же его покарали? — спросил я.
— Да зверски убили! — позлорадствовала Ловчева. — Даже голову отрезали. А на поминках, — продолжала, — коммунары перепились и сожгли барский дом, где устроили свою коммуну. Больше, слава Богу, она не возобновлялась. Но коммунары, эта отборная голытьба, ещё много дерзкого натворили: ограбили обе церкви — Успенскую на Княжеском взгорье, а затем и Троицкую. Они и княжеский склеп вскрыли и ограбили. Прямо-таки сатанинское племя: что хотели, то и творили. — Впрочем, — вздохнула она тяжко, — и сейчас не лучше: та же грабиловка. Только нынешние грабители называют себя демократами. Ох, Господи, за что же такие напасти на нас?
Я слушал Наталью Дмитриевну и у меня было очень странное чувство — будто не я её случайно встретил, а она меня давно поджидала, чтобы излить свою измученную душу. В любом случае наша встреча выглядела будто бы давно намеченной, будто бы нечто большее нас объединяло.
Глава пятая
На Троицком взгорье
I
Троицкое взгорье от последних изб Гольцов располагалось примерно в километре. Впрочем, под взгорьем местные жители понимали пологий полевой подъем, уходящий в небо, куда и устремлялась по обрывистой гряде дорога. А короткий свёрток от неё ближе к Оке, довольно высокий и довольно объёмный, напоминающий лежащего медведя, был не то естественный холм, не то искусственный курган, — возможно, и древний могильник.