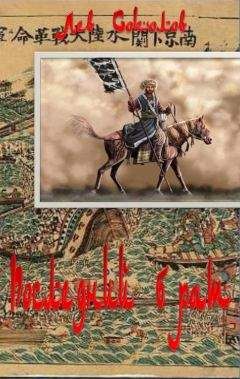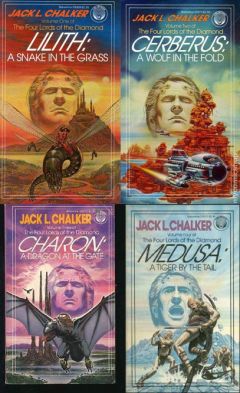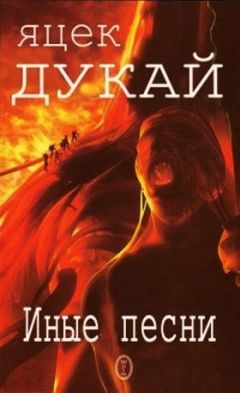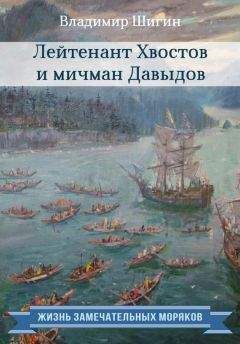— Интересно, что теперь с тем ворюгой будет? — спросил Амар, поудобее разваливаясь на жесткой скамье.
— Надо ему было об этом подумать, прежде чем ручонкам волю давать, — ответил Улеб без всякой жалости.
— Скорее всего, пойдет на каторги, гребцом на суда. Василевсу не хватает гребцов.
— По справедливости, — сказал Улеб. — Украл у моряка — сам стал моряком.
— Эх, дайте мне тогда украсть что-нибудь у императора… — засмеялся Тит.
— Укоротись, Тит, — одернул Трофим. — Дурацкие шутки никого еще не доводили до пурпурных сапог[16], а вот до плахи — многих.
Тит замолчал, но кривился ухмылкой.
— У нас в степи люди живут кочевкой. — Юлхуш поправил ворот грубой рубахи. — Все добро возят с собой. Не как у вас — поставил дом, и копи в нем добро. Только очень знатные могут позволить себя возить вещи, которые не нужны в хозяйстве. Которые для роскоши, а не для нужды. Знатных мало.
— Их везде мало, — пожал плечами Фока.
— Да… — кивнул Юлхуш. — А у простых людей в наших краях каждая вещь, каждая голова в стаде человеку жизнь от смерти отделяет. Нет бездельных вещей. Поэтому если вор вещь крадет — он жизнь крадет. Мало есть грехов хуже воровства. За этот грех платят жизнью.
— А если человек крадет, потому что с голода умирает? — спросил Тит. — И тогда грех?
— Глупость сказал, — покачал головой Амар. — Если мугол умирающего от голода в степи встретит — ему сам все отдаст. Последнее отдаст. Поделится. Так зачем тогда человеку красть? А если умирающий не встретит другого — у кого он красть будет? Так и помрет с голоду.
— Гм-м… — Тит сперва даже не нашелся, что ответить, и некоторое время собирался, отыскивая брешь в логике Амара. — Если все так, откуда тогда у вас вообще воровство берется, про которое Юлхуш сказал, что оно страшный грех? Значит, все же бывает, что и у вас кто-то тырит?
— Люди с червивой душой везде есть, — развел руки Юлхуш. — У нас их просто меньше.
— С чего бы это? — удивился Тит.
— А у кого ты в степи воровать будешь? — улыбнулся Юлхуш. — У камней, у травы, у неба? Наш вор в обычное время, как и другие, кочует. Только если на сходе рода, или в город попав, у него есть возможность украсть. Чаще добыча случайно подворачивается, и человек свою гниль одолеть не может. У вас не то. Города людные, здесь вор все время с кражи живет, как шакал на охоту выходит.
— Так у вас просто искусов меньше, а не людей с червивой душой, — хмыкнул Фока.
— В городах отношение к жизни другое, — покачал головой Амар. — Людей вокруг много, жизней много, думают, чего их жалеть…
За угловым столом компания совсем разухабилась и заголосила песню. Выводил крепкий битый жизнью дядька с черными как смоль глазами. Компания подтягивала каждую строку выкриком «Таласса!», и для акцента еще и бухала кружками по столу.
Владычица жизней, о, не гневись.
Море!
Прохладой своей ко мне прикоснись.
Море!
Дай ветра в парус, чтоб был он полн.
Море!
А если на веслах, — чтоб гладь без волн.
Море!
Не бей сварливо ударами в борт.
Море!
И выйти дай, и войти мне в порт.
Море!
А если все же пустишь ко дну.
Море!
Не делай могилой мне глубину.
Море!
Дельфином дай стать и скользить по волнам.
Море!
Чтоб мог помогать я другим морякам.
Море!
Взрезая волну своим плавником.
Море!
Я им укажу дорогу на дом.
Море!
За мной пусть скалы и мели пройдут.
Море!
Пусти их, хозяйка, их дома ждут.
Море!
Владычица жизней, о, не гневись.
Море!
Резвись на волне, дельфин,
Резвись…
— Море!!! — финально гаркнули моряки, и стуканули кружками по столу так, что у некоторых в руках остались лишь глиняные ручки. С других столов их поддержали одобрительными выкриками.
— За кружки придется платить, охламоны! — явила голос всевидящая хозяйка.
Трофим подумал, что заведению гораздо выгоднее именно глиняная посуда, чем другая, более прочная… Оглянувшись на выкрик хозяйки, он заметил, что в дверь с улицы вошел тот самый моряк Коста, который пытался отучить вора от его ремесла тяжелой сандалией. Теперь он разговаривал с хозяйкой. Видимо, он обходил все доступные ему кабаки… Между тем к столу контубернии подплыла темноволосая пышнотелая девица с большущим деревянным подносом.
— Принимайте, вояки, — весело сказала девица и начала сгружать миски с дымящимся варевом, ложки и хлеб. — Остальное сейчас донесу.
— Спасла от голодной смерти, красавица! — благодарственно сказал Тит, втягивая идущий от миски парок.
Девица улыбнулась и стрельнула в Тита черными глазищами.
— Мису передай! — Толкнул Улеб Тита.
— Держи. — Тит сунул мису на голос, не отрывая взгляда от девушки. — А как тебя зовут, глазастая?
— А так и зовут… — Девица наклонилась чуть ближе к Титу. — Матакья.
— Знала бы ты сколько лет я тебя искал, Матакья, — проникновенно провозгласил Тит.
— Именно меня? — изумилась девушка, доверчиво распахнув глазищи.
— Именно тебя.
— Небось все по женским спальням разыскивал? — ехидно поинтересовалась девица, отбросив простодушный вид.
— Бывало, и там, — скромно ответил Тит.
— То-то и вижу, что бывало.
Теперь, поскольку все с подноса уже перекочевало на стол, Матакья распрямила стан, отчего внушительная грудь её прорисовалась даже под грубым платьем особенно объемно.
Несмотря на гипнотизирующие глазищи Матакьи, взгляд Тита неудержимо соскальзывал ниже.
— Матакья, хватит там языком с солдатней чесать! — гаркнула со своего конца залы горластая хозяйка. — Посетители ждут. И ты, ушастенький, ешь, что заказал, а не сбивай моих девчонок пустым трепом. — Тыкнула она в Тита своей деревянной клюкой.
— Правильно, Матакья! Брось этих земных сусликов, иди к нам — настоящим морским дельфинам! — завопила развеселая матросня через два стола. — Да захвати с собой кувшин черного вина. У нас все уже обмелело!
— А чего это сразу трепом? — Тит подбоченился, и игнорируя матросню, полуобернулся к хозяйке. — Я, может, Матакье хочу бусы подарить.
Матакья, которая вроде как уже совсем собиралась отойти от стола, притормозила.
— Такой как ты может девушке только ребенка подарить! — фыркнула баба. — Дурное дело не хитрое. — У тебя солдатик, даже на меня денег не хватит, а о моей внучке и думать забудь.
— Га-га-гы-га! — громыхнули хохотом остальные посетители, от хмельного восторга проливая вино на себя и окружающих. И даже сидевший в углу невозмутимый тип с лицом, покрытым замысловатым ритуальным узором из шрамов, ухмыльнулся так, что белые линии ожили на загорелом лице.