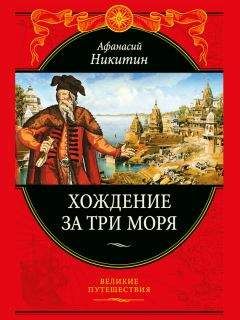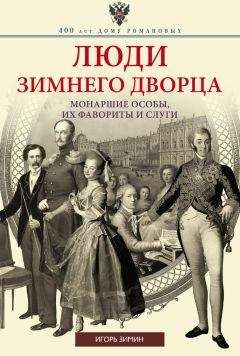– Проклинаю! Проклинаю тебя! Самое дорогое потеряешь!
Хайло лишь усмехнулся. Он не был суеверен.
Поехали дальше, через Оскол, Дубравы и Старый Кипень, и на четвертый день миновали порубежный острог Зашибеник. Тут стояла конная дружина, охранявшая границу, и дорога раздваивалась: к мелкому морю Азову вел Крымский шлях, а к Дону-реке – Донской. По Крымскому шляху везли с Руси пушнину, мед и серебро, а обратно возвращались с солью и соленой рыбой. Донской шлях нынче был не таким оживленным, ибо купцы, торговавшие с хазарами, предпочитали возить зерно и лес баржами по Волге и Днепру – так хоть и медленнее, но дешевле. К тому же и безопаснее – по рекам плыли большие караваны со стражей для защиты от лиходеев. Если кто и ехал по Донскому шляху, так мелкий купец-одиночка, и вез он не меды и меха, а порох, ружья и иное снаряжение для казаков.
Пролегал Донской шлях по степи, и было то место странным: вроде бы кончалась Русь за крепостцой Зашибеник, а если выбраться к Дону, там снова Русь – и говор тот же, и одежды, и обычай. Хотя, конечно, разница имелась: жизнь у казаков была посвободнее, а налоги меньше. Но не даром, не даром – обязались они служить князю-батюшке в любой войне, любом набеге, какие государь затеет.
Степь лежала от Зашибеника и других порубежных острогов до самого тихого Дона и дальше, до Кавказских гор. В эту пору была она вся в серебристых ковылях и золотых одуванчиках, цвела щедро и буйно, будто не топтали ее никогда хазарские кони, не ранили колеса телег, не косили травы клинки да осколки снарядов. Прекрасно было ее цветение! Но стоило копнуть лопатой землю, как являлись на поверхность кости, череп или ржавое железо.
Выехали гонцы в степь, заплясали жеребцы на радостях, и даже сивый Свенельдов мерин приободрился и пару раз махнул хвостом. А Чурила свистнул по-разбойничьи и песню завел:
Степь да степь кругом,
Путь далек лежит…
В той степи глухой
Умирал ямщик…
– Давай повеселее, – приказал Хайло. Песня будила тягостные воспоминания об Азовском походе, когда в степи тоже погибали, только не от холода и голода, а под хазарскими саблями и пулями. Сотник прогнал мрачные мысли и молвил с усмешкой: – Эту запевку исполнишь, если хазары нас в яму посадят.
– Или на кол, – добавил Свенельд. – Я висеть с айн сторона, сотник – с цвай сторона, а ты, Чурка, посередине. Висеть и песни нам играть! Прям-таки скальд-герой! Лепо, братие!
– Не пугай, хрен брюхастый, – отозвался Чурила, но песню завел другую, не о смерти, а о добыче:
Казак лихой, орел степной,
Куда ты едешь, сокол мой?
Пограбить злато и товар
У недругов моих хазар.
Вернусь с хазарской головой
И полной золота мошной…
Потом, разохотившись, запел про любовь, протяжно и с чувством:
Па-ацелуй меня, ты мне нравишься,
Па-ацелуй меня, не отравишься,
Па-ацелуй меня, потом я тебя,
Потом вместе мы ра-асцелуемся!
Когда солнце пошло на закат, они съехали с Донского шляха и заночевали в овражке, у журчавшего в травах ручейка. Расседлали коней, сварили кулеш, живо очистили котелок, запили бражкой из фляги. Небо было темным, глубоким, в ослепительных звездах. Тихо пофыркивали лошади, шелестел под ветром ковыль, трещали, догорая, сучья в костре. Лунный свет падал на степь, и была она спокойна и тиха – дремала под охраной каменных идолов, что торчали на курганах. От народа, воздвигшего их, других следов не осталось, но говорили старики, что звалось то племя киммерийцами. Будто в незапамятные времена вел этих киммерийцев на запад великий вождь Конан и что добрались они до последнего моря, осев на жительство в сказочной стране Португалии. Идолов же ставили, чтобы отметить путь с Таймыра, древней своей родины, куда так и не вернулись – в Португалии было лучше.
– Вот ты, старшой, в Ехипте служил и в еудейских землях дрался, – молвил Чурила. – А у латынян был? В Риме ихнем?
– Нет, не довелось, – отозвался Хайло. – Крепость римскую, что у моря стоит на африканском берегу и Цезарией прозывается, я видел. Башни высокие, стены крепкие и все в золотых орлах! Нанялись мы там в легионы, на корабль взошли и поплыли было в Рим, да весть пришла, что Мемфис в осаде. И командир наш чезу Хенеб-ка метнул в море мешок с римской деньгой денарием и велел поворачивать к египетской столице. К Мемфису этому на выручку… Там и сгинул.
– Мешок-то быть большой? – полюбопытствовал Свенельд.
– Да уж не маленький! Пудов восемь серебра.
– Это сколько ж на куны получаться? Или на талер? – Свенельд задумался, сосчитал и крякнул. – Фак майн муттер! Такой мани, и в воду! Ай, нехорошо! Не гуд!
– Хорошо ли, плохо, а чезу так сделал, – произнес Хайло. – И ни один боец слова поперек не вякнул. Крепко Хенеб-ка воинство наше уважало.
– Иначе надо бы. Надо мешок с денарий оставлять, а потом…
– Что ты, дядька Свенельд, все о деньге да о деньге! – перебил Чурила. – Дай про латынян спросить!
– А почто ты о них любопытствуешь? – молвил Хайло.
– Как же! Мы вот к хазарам посланы за волхвом еудейским, а другие в Рим и Ехипет едут. Ну, про ехипетску веру ты нам не раз сказывал, а про хазар я от бабки знаю… А о латынянах – ничего! Не дело это. Вдруг государь повелит их веру принять? И чего тогда будет? Как молиться, какие класть поклоны и что тащить их богу: козу, овцу или, положим, гуся?
Сотник почесал в затылке. Вопросы были непростые, но резонные, и всяк киевлянин, суздалец или новеградец мог спросить о том же. А кого спрашивать? Конечно, людей бывалых, поживших в чужих краях, к которым Хайло и себя причислял. Рука его вновь потянулась к затылку, но тут он вспомнил Марка Троцкуса с его любимой клятвой и уверенно произнес:
– Главный бог у них Юпитер. Такой хмырь бородатый, любит молнии метать и по бабам шастать.
На этом сведения Хайло почти кончались, так как Марк, ярый безбожник, о латынской вере говорил вскользь, а больше толковал о пролетариях и братстве народов.
– Бородатый и молнии мечет… – повторил Чурила. – А в чем же отличка от нашего Перуна?
– Из мрамору он, а наш – дубина деревянная, – пояснил сотник. – И кровью его не мажут, а курят перед ним травки благовонные. И еще… – Хайло сморщился, припоминая храмы, виденные в Цезарии, и добавил: – Скотину и гусей с курями к нему не тащат, жертвы он чистоганом берет, монетой то есть.
– А кому те жертвы идут? – не отставал Чурила.
– Кому! Жрецам, понятно дело. Говорили мне, что жрецы в Риме первые богатеи. В золотых одежках ходят.
– Это что ж получается! – Чурила даже в костер плюнул. – Мало нам своих захребетников, так еще и латынских будем кормить! Нет, я лучше к еудеям прислонюсь. Бабка сказывала, что та вера сурьезная, священство лишь книгу мудрую читает, а денег не просит.