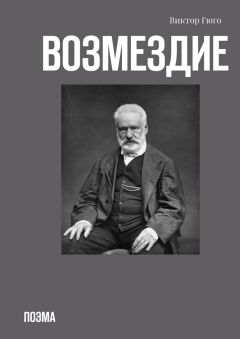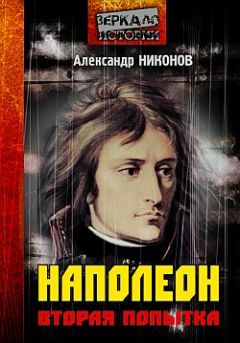Он худший из злодеев, зачем же так кричать?
Я голос ему отдал, тогда резон молчать.
Быть против, это значит, себя мне обвинить;
Скажу себе, что трус я. И как теперь мне жить?
А смельчаки – другие? Нейтральность сохраня,
Почувствую ущербным себя в дальнейшем я.
Согласен, на запястье веревка кожу трет.
Чего же вы хотите? Хозяйство как идет?
Республики боялись мы красной роковой,
И даже розоватой боялись мы порой,
За жулика считаем, но Император он!
Так, это очень просто. Террор со всех сторон,
Мы помним жакерию и призрака Рамьё,
Такой нашелся выход, все ж лучше, чем в ружье!
Когда же о правительстве напраслину несут,
Я чувствую внутри себя невыносимый зуд.
Возможно, что ругают его совсем не зря,
Но с ним меня ругают, простого буржуа,
Теперь он – император, и в том моя беда,
Ему лишь из-за страха сказал я прежде «Да».
И вправду, он нахальный, рассказывали нам,
Но страх меня обуял к безжалостным врагам,
Сегодня не приемлю отважных, удалых,
Считаю я за дерзость отчаяннность других.
Мудрец, на лбу пунийца когда прочтешь, что он
Из порванного права свой вытащил хитон,
Когда вы мстите людям, за горло их схватив,
Закон и клятва в силе, подумайте о них,
Меж избранным Сбогаром, Жеронт его избрал,
Перо ваше горящее, анархии накал,
Злодейства предвкушенье, с одной лишь стороны,
Ну, а с другой – та трусость, которой вы полны!
Джерси. Ноябрь 1852.
Когда все кончено и в унижении мы,
Порядок наведем, очистим все умы,
Шагаем с гордым видом; но наш позор испит.
Все это королевский двор вершит,
Все ожило, и чести им не надо.
Пора б добавить в эту груду смрада,
Зародышей уродов и карликов помет,
Египет крокодила и мумию даёт,
Притон бандитский, дай нам шулеров;
Шекспир – Фальстафа, а леса – волков;
С тебя, Рабле, все вечно жрущий Грангузье,
Бридуасона ждём от Бомарше,
И дьявола от Гофмана. Дай ангела, Вейо!
Скапен Жеронта принесет в мешке своем;
Дюма – Карконту, а Бальзак – Вотрена;
Вольтер – Фрелона, для кого родная мать – измена,
Мабиль – распутство красоты большого сада;
Нам Жиля Бласа от Лесажа надо;
Пусть Гулливер даст Лилипута. Слушай!
Еще б неплохо от Калло нам Скарамуша.
Монах нам нужен от игорного притона;
Монталамбер Мольера и Брюскамбиль Скаррона,
Все худшее к дурному тень страха соберет,
Тацит, из них мы сделаем империи оплот!
О, Ювенал! Мы знаем, кого позвать сенат.
II
Руэ – овернец, а Дукос – гасконцам брат,
Евреи, Фульд, Искариот Сибур, Шейлок,
Бошар, палач слащавый, виновник всех тревог,
И вы, Парьё, Бертран, проклятья патриота,
Барош, чье имя вызывает только рвоту,
О, служки церемонные, мошенники короны,
Трудитесь над спиной, чтоб чинно бить поклоны,
Подобострастно, чтоб Домье был очарован вами,
Изгибом ваших тел, учтивыми словами.
Согласны вы со мной, кого сейчас назвал,
Что Бог-мудрец совсем не зря его создал,
Для Франции, но все ж, ему Гаити подойдет.
И вас он породил, чтоб множить свой доход.
Философы, прижатые саднящей болью в сердце,
И вы, гуляки тертые, тюрьмы единоверцы,
Пошлите свой привет ниспосланному богом,
Правителю с небес, упавшему к порогу,
Усатый государь, с охраной в сотни будок,
Умеет их ценить за верность и заслуги,
И этот дивный князь, великородный некто,
Шлет Пуасси в сенат, Клиши шлет в супрефекты.
III
Затем теорию добавили к злодействам
«К чертям свободу, право – лицедейство!
Потом прогнулись в ряд, и преуспев, конечно,
В огонь бросали прессу, ораторов поспешно.
Со взятия Бастилии все нации пьяны.
Глашатаи, писатели уж больше не слышны.
Поэт опальный, он – умалишенный втрое;
Прогресс – обман, искусство – то пустое,
Мир мертв. А что, народ? Подобен он ослу
Закон наш – это сила! Поклонимся мечу!
Прочь Вашингтон! Да здравствует Аттила!»
Чтоб поддержать борьбу есть праведная сила.
Да, пусть они придут, без чести и без сердца,
Кто совестью грешит, с душою иноверца,
Их солнце поднялось, родился их мессия.
Все сделано, все издано, утверждено отныне,
Расстрелянная Франция в плену и спасена.
Птенцов растит сова Измена – дела….
IV
И что ж! Вот это нечто царит, чтоб истребить
Историю и право, и чтоб испепелить
Прах предков благородных и судьбы сыновей,
Софисты, солдафоны затягивают сеть,
Животные ночные полезли из берлог,
Радецкий эшафота обнюхивал порог,
Граф Дьюлаи усатый, безжизненный Буоль,
Гайнау, Бомба вместе плетутся ниотколь,
Народ мой безутешный, хотя и сокрушен,
За честь готов сражаться, как римский легион,
От Пешта до Парижа, от Тибра до Карпат,
По трупам бодро лезет тысяченогий гад.
V
Ряд толстых, умных книг два автора-лингвиста
Бато, как и Бозе, залили новым смыслом,
И кладезь этих знаний неплохо б повторить,
Чтоб букву каждую осмыслить, оживить.
Они нашли тотчас всем мерзостям позорным
Значенья новых слов. Так, фальшь с лицом покорным
Манжо зовется. А вот, в церкви Иисуса продают,
И слово «стыд» изменим, теперь его зовут
Сибур, предательство – Мопа; а вот, расправа—
Маньян, он – член сената и палач кровавый,
Здесь – малодушие, так Ардуэн зовется;
А Риансе, он – ложь, и держит он в колодце
Закованную правду в безоблачной ночи,
А имя «пошлость» носит Монлавиль-Шапюи;
Продажность для княгини название под стать,
Злость – Карреле; а «подлость», так бы Руэ назвать,
Делангля служкой мерзким неплохо б окрестить.
О муза, помни имена! Ты хочешь оценить
Продажные суды, с душой грязней навоза?
Начни-ка с Партарье, закончивши Лафоссом.
Позвал я Сент-Арно, убийца мне ответил,
И чтоб закончить трауром и ликованьем смерти,
Святой Варфоломей на старой доброй карте
Уступит место, торопясь, божественному Бонапарту.
То, что касается людей, они проголосуют,
Как можно сомневаться? Париж уже ликует,
Сибура слушая, Тролона, тролонгистов,
Наполеоны оба слились дифтонгом чистым,
Берже сплетает их в отважный авангард,
Между Арколь, Лоди стоит бульвар Монмартр,
В зловонной, мерзостной тюрьме Спартак сейчас сидит;
Укрылся где-то Фемистокл и изгнан Аристид,
И Даниил уже во рву, сосед жестоких львов,
Мы миллионам брюхо распорем так легко!
Джерси. 20 января 1853.
Ну, хорошо! Мошенники и короли насилья,
Присядьте-ка за стол, поближе к изобилью!
Спешите! Разместите всех!
Так, ешьте, пейте, жизнь так мимолетна!
А весь народ, влачащий жизнь бесплодно,
Для ваших лишь утех!
Рубите же леса! Озера осушайте!
Урежьте-ка бюджет! И родину продайте!
Да, пробил час такой!
А вот последний су, еще поля возьмите!
И в городах рабочих заморите!
Вам это не впервой!
Попойка светит впереди! Веселье распирает!
А бедная семья в соломе умирает
Где нет дверей, окна.
Мужчина в полутьме лишь милостыню просит,
Их мать иссохшую едва уж ноги носят,
И у ребенка нету молока.
II
Цивильный лист, дворцы и миллионы!
Я в подземельях Лилля слышал стоны,
Я видел этот заунывный мрак.
Там, под землей, где призраки ночуют,
Согбенные; их задавила жизнь, прессуя
В железный свой кулак.
Они страдают, воздух там токсичен,
Слепой чахоточному пить дает привычно,
Вода в углах бежит ручьём;
Ребенок в двадцать, и старик за тридцать,
И каждый вечер смерть – жестокая убийца
С косой заходит в гости вечерком.
Здесь нет огня, дождь заливает окна,
Где скорбь и злоба ткут свои волокна,
О, труженики бедные, для вас!
Около прялки с нитью, которую мотают,
Убогость в келью мрачную вползает
Из окон, утопающих в слезах.
О, нищета! Мечтать семьей впотьмах,
Но рядом с ними только мерзкий страх,
Добро толкающий в объятья зла,
И дочь свою, принесшую еду,
Не смеет он спросить начистоту:
Дочурка! Где так долго ты была?
Отчаяние спит среди лохмотьев блеклых;
А там, в других местах, красивых, теплых,
Им далеко до этих передряг!
Девица в розовом, а ночью – в фиолете,
Ползет, стыдясь костлявого скелета
И наготы червя;
Они дрожат сильней, чем сточная вода,
Им нормы жизни не доступны никогда,
Продрогший до бесчувствия скелет;
Когда я к ним входил, угрюмый и понурый,
Девчонка милая со старческой фигурой
Сказала: «Мне уже семнадцать лет!»
Кроватки нет у изможденной мамы,