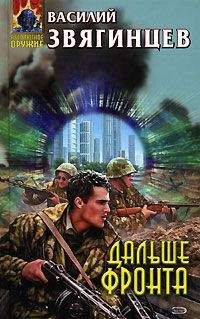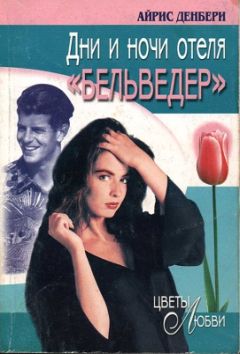Покивал, сообщил, что и сам считает заключение людей под стражу величайшим злом, хотя, увы, до сих пор необходимым. Но ведь разве сейчас речь идет о заключении? Нет, нет и нет. Это просто такой, не совсем, может быть, джентльменский способ обеспечить условия для откровенного разговора. По душам. Не случайно ведь никто никого не бил, не швырял с размаху в тюремный фургон, не заточал в смрадное узилище. Окружающая нас обстановка вполне комильфо, вы не находите? Ну а наручники… А что наручники? Не более чем общепринятый способ избавить человека от неприятностей, которые он может на себя навлечь, проявляя неумеренную двигательную активность.
– Ведь согласитесь, при попытке пригласить вас приватно пообщаться каким-то иным способом, вы непременно бы насторожились, начали связываться со своими хозяевами, постарались обеспечить мощное силовое прикрытие…
При этом Александр Иванович ни за что не извинялся, не обещал немедленно устранить возникшее недоразумение. В обмен на откровенность, разумеется.
Просто задал несколько лобовых вопросов, свидетельствующих о глубоком знании предмета. В том числе каким именно способом осуществлялось внедрение в мозг террористов нужной программы и дальнейший контроль за их поведением. И предусмотрено ли, в случае необходимости, ее бесследное снятие?
Ожидаемые ответы отмел легким движением щеки и брови. Не изменяя тональности, попросил назвать место, куда планировалось отвезти захваченного князя и кто с ним должен был продолжить работу. Лубенцов вновь заявил, что не понимает, о чем идет речь.
– Вот ведь в чем подлость ситуации, Семен Лукич, весь ваш сегодняшний разговор записан, пленку я готов прокрутить и вам, и вашим сотрудникам, после чего начать спрашивать о смысле и содержании каждой произнесенной фразы отдельно, с применением всех используемых в таких случаях средств. В режиме очной ставки. Причем совершенно как в преферансе на распасах, сидящий на третьей руке будет иметь ощутимые преимущества. Но вы-то все время будете на первой. Так как?
– Выпить чего-нибудь можно? И закурить?
– Это как водится. Не звери же мы какие, обеспечим. Чего желаете?
Верный слуга Джо Кеннеди, названный так в честь лакея доктора Фергюссона из романа «Пять недель на воздушном шаре», вкатил сервировочный столик.
Дав время собеседнику подкрепить слабеющие душевные силы, а заодно подумать о своем печальном положении, Александр Иванович, за компанию употребив рюмку коньяку и высосав дольку лимона, неожиданно широко и дружелюбно улыбнулся.
– Что вам сказать, милейший Семен Лукич, в определенном смысле вы испытание выдержали. Держались почти до упора. Говорить-то вы в любом бы случае начали, я лично не знаю людей, которые способны выдержать допрос третьей, не говоря о четвертой степени. Но вы старались. Это – зачтется. Ваши соратники, ставлю вас в известность, уже поют на три голоса, выкладывая все, о чем спрашивают, и многое сверх того…
– Откуда вы знаете?
– А вот, прошу…
Он вытащил из левого уха телесного цвета капсулу, как раз по размеру слухового прохода. Протянул Лубенцову. Тот услышал слабый, как комариный писк, но отчетливый голос банкира Андрея Платоновича, признающегося, кающегося, обещающего всякое возможное содействие следствию.
– Но суть не в этом. Такая вот фраза вам о чем-либо говорит?
И произнес пароль, означающий, что владелец его принадлежит к персонам высшего круга посвящения, для которых региональный резидент ненамного значительней приказчика табачной лавки.
– Сидите, сидите, Семен Лукич, я этого не люблю. Подведем итоги. Основное задание вы провалили, сотрудников подбирать не умеете, даже собственную безопасность обеспечить не в силах. В таком случае инспектирующий ставит на личном деле проверяемого пометку – «Списать» и, как любила говорить Шехерезада: «Вот все об этом человеке».
Выдержал паузу должной продолжительности, с удовольствием наблюдая, как лоб испытуемого покрывается бисерным потом. А что их жалеть, недоумков?
– Но у меня, на ваше счастье, иные принципы и иные, гораздо более широкие взгляды. Посему – давайте-ка все, что есть, по варианту Юдифь. Может быть, это несколько поправит ваши шансы.
Да, кстати, я ведь до сих пор для вас инкогнито. Упустил. Наверное, от волнения. Меня зовут сэр Ричард. Ричард Мэллони. Если бывали у нас в Лондоне, наверное, слышали. Как вы поняли, я вправе решать судьбу любого человека, имевшего неосторожность (или счастье) вступить в ряды нашей организации. Как в ту, так и в другую сторону. Независимо от вашего формального статуса вы все для меня только солдаты. Пехота. Расходной материал …
– Ничего подобного никто мне не говорил. Напротив… – подал голос Лубенцов.
– Да кто ж вам скажет? Когда вербуют столь значительную персону, речь всегда идет только о грядущих благах, карьерном росте, деньгах, славе и прочих приятностях. Причем обычно все это оказывается правдой. Но не всей правдой. А вся становится известна в некий момент истины. Для вас он, кажется, наступил.
Вы понимаете, истина – это не совсем то же самое, что правда. Так даже в философском словаре написано…
Любил Александр Иванович, хоть в российском обличье, хоть в британском, в самый серьезный, казалось бы, момент, потешиться словесными кружевами. Поскольку давным-давно заметил, что собеседников такого, как Лубенцов, типа это всегда нервирует, даже пугает.
– Истина же заключается в том, что, продавая собственную душу, дьяволу, мафии, госбезопасности – неважно, человек мгновенно теряет преимущества обладания бессмертной душой. Он уже не может гордо стать в позу, послать кого-то к черту, с достоинством взойти на костер. Раз и навсегда превращается в шестерку, пешку в чужой игре…
– Я не продавался, я просто на работу нанялся, разделяя цели организации… – пытаясь сохранить остатки гонора, вскинул подбородок Лубенцов.
– Человек, имеющий твердые нравственные устои, активную, как одно время говорили, жизненную позицию, никогда не станет совершать преступления и подлости за деньги. Фанатик идеи всегда начинает свой путь бескорыстно. Потом он, конечно, может добиться и богатства, и положения, но все-таки для него первичен риск и самоотверженность, чего в вашем конкретном случае не наблюдается…
– Вы что, решили напоследок озаботиться моим нравственным возрождением? – криво усмехнулся Лубенцов, решив, что терять ему, и так и так, больше нечего.
– Ни в коей мере. Я не Христос, не Достоевский и не Лев Толстой. Я вас, как это принято говорить в определенных кругах, опускаю, чтобы вы впредь не питали иллюзий о своем истинном положении в карточной колоде, на шахматной доске или в тюремной камере. А условленные деньги вы получать будете по-прежнему. Разумеется, при правильном поведении. Тут мы не мелочимся.