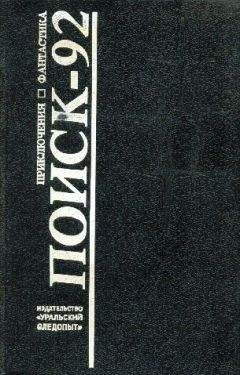Бывшая жена Максима также подтвердила гениальность пьес, сообщив, что пьеса "Заблудившийся Икар" была про Икара, пьеса "Бакунин" – про Бакунина. Ее свидетельству, видимо, можно доверять, так как именно у нее хранятся пленки с записями пьес. (К сожалению, на эти пленки были впоследствии записаны ансамбли "АББА" и "Бони М").
Бывшая жена Максима с теплотой вспоминает о вечерах, когда друзья Максима прослушивали пьесы. Обстановка была веселая, непринужденная, покупалось вино – всем хотелось отдохнуть и повеселиться, часто употреблялось шутливое выражение ставшее крылатым: "Максим, да иди ты в ж%пу со своими пьесами!"
Несмотря на то, что писание пьес отнимало у Максима много времени, он, видимо, с целью сбора материала для литературной обработки, служил младшим бухгалтером в канцелярии.
Учитывая, что Максим в свободное время занимался домашним хозяйством, а также то, что он часто упоминал о своем желании уйти в дворники, нельзя не вспомнить слова Маркса и Энгельса из работы "Немецкая идеология":
"… В коммунистическом обществе, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, каждый может совершенствоваться в любой отрасли… Делать сегодня одно, а завтра – другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, – как моей душе угодно". <> Максим в полном смысле этого слова не был ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности. Так, в 23 года он неожиданно для друзей оставил и литературную и канцелярскую деятельности, в течении 2 лет совершенствуясь исключительно в военной области, причем не по-дилетански, а в рядах вооруженных сил.
Вот то немногое, что известно о юности Максима до развода с женой – остальные сведения крайне отрывочны и противоречивы; так, бывшая жена утверждает, что с годами он становился все тоскливее и тревожнее, не ночевал дома и избегал друзей, а Федор утверждает, что напротив, Максим "наплевал и успокоился".
В этих противоречивых суждениях даже не понять, о чем идет речь.
Сам Максим никогда не рассказывал о своей юности и на вопрос, как сформировался его характер, только с грустью смотрит в окно.
1
Глубокой ночью встал Максим, чтобы напиться воды из-под крана и, напившись, сел за стол, переводя дух.
И уже крякнув, перед тем, как встать, заметил на столе коробку с надписью: "Максиму от Петра".
Когда же он раскрыл коробку, там оказались коричневые ботинки фабрики "Скороход". Бледно усмехнулся Максим и задумался, не пойти ли ему спать или еще воды попить.
И сказал:
"Что же ты, Петр, единственный, кто помнит о моем дне рождения, ждешь от меня? Благодарности? Самую искреннюю из моих благодарностей ты знаешь: иди ты в ж%пу со своими ботинками.
Но не получишь такой благодарности, не бойся. Ибо и в этом мире надлежит каждому воздавать по помыслам его; и вот тебе моя награда.
2
Да, ты угадал – я и нежен, и ностальгичен – это ли хотел разбудить снова? Замечал ли ты, что перед Новым Годом не могу ходить по улицам и посылаю в магазин Федора – нет мочи видеть мое задушенное детство в тысячах мерцающих елочек.
Знаешь, что такое твой подарок? Цветок на пути бегуна – и о цветок можно подскользнуться; а что толку от него? Что толку выпившему цикуты Сократу от таблетки аспирина?"
Так говорил Максим.
3
"Воистину в яд превратил я кровь свою – и даю вам: вот, пейте, а ты хочешь дать мне таблетку аспирина?
Я тот, кто приуготовляет путь Жнецу. Умирать учу тебя, и удобрить почву для пришедших после Жнеца – а не умереть, как слякоть всякая, под серпом.
Отравленное вино лакали твои отец и мать под грохот маршей – и первый твой крик, когда ты вышел из чрева матери – был криком похмельного человека.
Вот ты ропщешь на Господа – зачем Он не отодвинет крышку гроба, в котором ты живешь?
Но не горше ли тебе станет – ведь ты и тогда не сможешь подняться, похмельный.
Ты добр и задумчив – ибо немощен и пьян. О, хоть добродетелью не называешь этого!
Знаешь, что делают с деревом, не приносящем плодов? До семижды семидесяти раз окопает его Добрый Садовник.
Но что, скажи, делать с сухим деревом?
Обойдет ли Жнец вас? Движение жизни для вас – верчение одного и того же круга: БЛЕВОТИНА РАСКАЯНИЯ ОТ ВИНА БЛУДОДЕЯНИЯ.
И что вино блудодеяния! – любой яд уже пища для вас; боюсь, что опоздал со своим чистым ядом за вашей эволюцией.
И вы еще лучшие из этой слякоти!
Закат окраски лучшее в тебе – но тяжесть заката не оправдание – ни Вальсингам, ни Боничках с проколотым горлом – не канючат отсрочки у Жнеца!"
Так говорил Максим; и, сказав, разбудил Федора, и тот вышел в кальсонах на кухню, молча сев напротив.
И Максим разлил портвейн.
Переписка Максима и Федора
Здравствуй, дорогой Максим!
Приехал в деревню я хорошо. Брат очень рад, он очень хороший и добрый. Высказываю такое соображение: ты все мои письма не выкидывай, а ложь в шкап, а я твои не буду выкидывать.
Тогда у меня будет не только "Записная книжка", а и "Переписка с друзьями", еще потом буду вести "Дневник писателя".
Больше писать нечего.
До свидания.
Федор. * * *
Здравствуй, дорогой Максим!
Забыл тебе вот чего написать: приехал я когда, на следующий день говорю брату -- пойдем в магазин. А он мне выразил такую мысль: магазина в их деревне нет, и в следующей нет, а есть только в Ожогином Волочке, а самогону нет.
Я спросил: как же вы тут живете? Он мне ответил, что собираются все мужики и идут в Ожогин Волочок весь день, а если там ничего нет, то идут до самой ночи дальше, вместе с мужиками из других деревень.
Тогда я говорю: ну, пошли. Пошли мы в Ожогин Волочок с заплечными мешками, какие тут специально у всех мужиков есть.
Больше писать нечего.
До свидания,
Федор.
* * *
Здравствуй, Федор.
А… иди в жопу.
* * *
Здравствуй, дорогой Максим.
Я все удивляюсь многозначительному факту, что в нашей деревне нет магазина. От этого многие мужики наутро умирают или убивают сами себя. Потому что не могут идти далеко.
И на могиле написано: умер от похмелья.
Все это происходит на фоне того, что тут нет вытрезвителя. Поэтому по улице можно ходить сколько хочешь.
Получил твое письмо. Пиши еще.
Больше писать не о чем.
Очень по тебе соскучился; трижды кланяюсь тебе в ноги до самой мать-сырой-земли.
До свидания.
Федор.
* * *
Здравствуй, Федор.
Не могу писать, похмелье ужасное.
Вот поправился, получше.
* * *
Здравствуй, дорогой Максим.
Все тут меня полюбили за то, что я городской. Многим мужикам я на память написал свое стихотворение "На смерть друга".
Если ты его не помнишь, я напомню:
– А сМеРТь ДРУГА
Шла машина грузовая.
Эх! Да задавила Николая.
Мужики тут все хорошие, добрые. Читал им твои письма, понравились. "Ишь, говорят, конечно, оно похмелье… А поправился, так и хорошо ему, Максиму-то!" Но мои письма, говорят, складнее.
Я их тут так научил делать: не идти из Ожогина Волочка обратно домой, а прямо там все выпивать. Жжем там по ночам костры, я учу их дзен-буддизму, поем песни. А наутро -- пожалуйста, магазин!
Больше писать не о чем.
Бью тебе челом прямо в ноги.
До свидания,
Федор.
* * *
Здравствуй, Федор!
Мне сейчас тяжело писать, Василий за меня напишет.
Здравствуй, Федор.
С интересом читал твои письма -- и вспомнилось из Андрея Белого:
"Вчера завернул он в харчевню,
Свой месячный пропил расчет,
А ныне в родную деревню,
Пространствами согнут, идет…"
И дальше:
"Ждет холод да голод -- ужотко!
Тюрьма да сума впереди.
Свирепая крепкая водка,
Огнем разливайся в груди!"
Но, Боже, сейчас-то положение хуже! И, оказывается, везде!
Ведь вся страна -- да что страна, нет никакой страны, -- весь народ начнет вот-вот вырождаться.
Пьяные слезы закапали все прямые стези и вот-вот превратятся в болота.
"Приуготовьте пути Господу, сделайте их прямыми!" -- как же! "Все в блевотине и всем тяжко, гуди во все колокола -- никто и головы не поднимет…" -- писал классик.