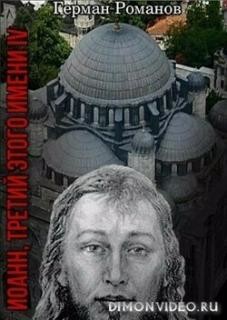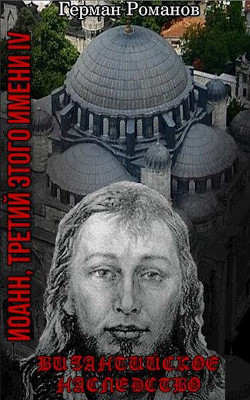– То мой выбор, тысяцкий. Если убьют меня литвины, то начнется война за наследство Романовичей – Галичина достанется ляхам, Волынь отойдет к Литве. А сына моего Льва, твоего внука, сразу убьют, стоит объявить мне его сейчас наследником.
– Княже, но делать что будем?! Ляхи и литовцы отчие земли рвут кусками, а как нам на то смотреть?! Ведь мы веками земли эти мечом боронили, державу крепили…
– А державу нашу бояре своей ненасытной алчностью и жадностью погубили. Вровень с князьями им хотелось встать! И что – головы теперь им рубить будут, что они в гордыне своей подняли. А те, кто на колени встанет, служить верно иноземцам начнут – им вотчины, может быть, и оставят. Но не все, большую часть отберут. И богатств своих боярство лишится, а многие и с головами вместе. Вот к чему привело их лукавство, гордыня безмерная и подлое предательство земли Русской!
Владимир Львович положил ладони на стол – его лицо стало смертельно бледным. Тысяцкий понурил поседевшую голову, прекрасно понимая, что в эту минуту его князь и родственник принимает самое опасное, и возможно погибельное, в своей жизни решение.
– Я напишу две грамоты от своего имени, с вислыми хрисовулами! Золотую печать мою никто не оспорит! Как король, от венца не отказавшийся, и корону на свое чело возложивший! В первой я объявлю польского короля Казимира клятвопреступником и отравителем, обманом и жестокостью овладевшим Галичиной.
Владимир Львович прикусил губу, сидел долго в мучительных размышлениях. А затем снова заговорил:
– И напишу там еще, что если не вернусь живым от Любарта, то считать и литовского князя клятвопреступником и убийцей. А всем грамотам, по которым я якобы передал ему Владимир с Луцком и все Волынские земли, не верить – ибо они лжа коварная, вину от моего убийцы отводящая. Никаких земель ни Польше, ни Литве, я в наследство не даю!
А всю вотчину Романовичей завещаю своему новорожденному сыну Льву, от твоей дочери, тысяцкий Роман, мной полученного позавчерашним днем. И его прямым потомкам! И тому из них, кто земли отчие обратно вернет, или будет признан равными по достоинству властителями в том его законном праве! То пусть тогда он и станет королем!
И эти две грамоты завещаю хранить вечно, с двумя золотыми королевскими коронами нашей земли, что в казне моей, а также с крестом и печатью первого короля Даниила Романовича! В глубокой тайне хранить, чтобы сын мой, или потомок, мог предъявить их в своем праве!
Владимир Львович остановился, задумчиво теребя вислый ус, а затем уверенным голосом произнес:
– Будет хорошо, если я признаю Льва незаконнорожденным, и грамоту подпишу, что жалую ему городок и владения. Эта будет явная, для литовского князя Любарта и ляхов, чтоб их в заблуждение ввести. Серебряный аргировул прикрепим печатью, ему поверят и владения у моего сына отбирать не станут. А имя его будет Лев Владимирович Галицкий! А ты, тысяцкий, за свой род клятву принесешь с сыновьями, что служить ему будете верно, и сию тайну сохраните и потомкам передадите в секрете держать!
– Клянусь, княже! Все исполним!
– Золото из казны этой ночью все вывезешь и спрячешь, немного монет оставишь. И все драгоценности, и серебра половину. В Киевской Лавре настоятель мне предан – он грамоты спрячет, и вклад богатый ему дашь. А еще он иеромонахов подготовит, но ты одному сыну заповедай сан принять, но лишь после того как наследников воспитает. И внуку також – кто-то из потомков твоего рода в Лавре ту тайну хранить будет с бережением, а в нужный час ее откроет!
– Сделаю, княже! Исполню волю твою!
– И пусть летопись рода моего ведут, и свитки о том хранят. Пусть даже через триста лет потомки мои, Романовичи по праву, на стол отич и дедич со славой возвернуться!
Глава 9
«Почему он на меня так смотрит непонятно?!»
Галицкий тяжело вздохнул, покосившись на соседа по «связке» – измордованного мужика лет сорока, с большими натруженными ладонями, с лицом в синяках и ссадинах. Из одежды на невольнике одно нательное белье, порядком изорванное и в кровавых пятнах, а ноги босые. Впрочем, обуви у захваченных пленников не имелось, за редчайшим исключением. У некоторых имелись чоботы из заячьих шкурок, порядком изношенные, и, видимо, не представлявшие для разбойников ценности. В отличие от его кожаных сапог, отобранных еще на берегу Донца.
Дорога измотала Юрия совершенно, и, если бы на пути он с полчаса не отдохнул у ручья, то вряд ли догнал обоз удачливых степных разбойников. Повезло и в том, что последний двигался медленно – быки ведь не лошади, идут неторопливо, человек их обгоняет быстрым шагом.
Галицкий рассмотрел телеги и повозки – ими правили обычные селяне, понукая лошадей и быков. А там наваленные груды разнообразной крестьянской утвари – котлы, домотканое сукнецо, туго набитые мешки, топоры, мотыги, вообще инвентарь непонятного назначения и прочее, прочее, прочее. Посреди разнообразного добра сидели ребятишки – испуганные, притихшие и молчащие. А с ними девицы в сарафанах – причем было не видно, что их били или насиловали – одежда не порвана, на лицах нет синяков и ссадин, и обувь не снята.
Странно, почему к ним такую милость проявили упыри, что без всякой жалости измордовали всех пленников?!
За возами на длинных и толстых веревках бежали пленники – избитые и ободранные, в истерзанной одежде, грязные и запыленные. Видимо, многие падали в пути, и татары их тут же поднимали плетьми. Проверенный способ придать силы и ускорение.
«Что творят суки червивые, что творят! Да за такие вещи нужно всех вырезать повсеместно, не взирая на пол и возраст! Наловили людей, повязали, кого убили, всех избили, а теперь волокут на продажу! И еще гарцуют, веселятся – много, видимо, награбили!»
Юрий посмотрел на конных татар – те вытянулись цепочкой вдоль возов, обычно парами, и смотрели на пленников постоянно, даже когда переговаривались между собою. За всадниками шли заводные лошади, причем не в поводу – а это говорило об отличной их дрессировке. И вряд ли с помощью плети, как несчастных полонянников.
Невольникам разговаривать между собой не позволяли – Юрий несколько раз видел, как лупили плетью разговорчивых без всякой жалости. Поневоле тут притихнешь – целее спина будет.
– Ой лишенько, диток повбили! Изверги!
Где-то впереди раздался дикий вопль – закричала женщина. А затем послышался яростный тоскующий вой, и столько было в нем звериной ненависти, что Галицкий содрогнулся всей душой.
Это ведь как надо довести бабу, чтобы она волчицей завыла на всю степь, и при этом надрывно смеялась?!
Обоз встал – пленники испытали облегчение от короткой остановки. Их порядком шатало, ведь они проделали долгий путь. Никто не ел с самого утра, а то и с ночи, ни крошки во рту, а попить воды удалось лишь раз у ручья. Невольников осыпали руганью, нещадно избивали плетьми. Старались зацепить каждого, на ком прищуренный взгляд степняка остановился.
Всех женщин, судя по их разорванной одежде, затравленным взглядам и синякам, еще прилюдно изнасиловали, подвергли всяческому глумлению, и радостно смеясь при этом.
Татары кинулись к той «грозди», откуда раздавался дикий вопль матери, потерявшей в одночасье детей, и он прекратился, тут же сменившись жалобным криком и причитаниями. И снова вопль – но уже идущий от немыслимой и непереносимой боли, от которого Юрий содрогнулся в страхе, не желая даже представлять, что татары делают сейчас со своей несчастной жертвой, находящийся сейчас в их полной власти.
– Не отводи взора, иначе тебя так же прикончат. Не отводи, ради Бога! Стерпи – иначе худо и мне будет!
Мужик к нему лица не поворачивал, вроде стоял безучастно, но его шепот обжигал ухо. Однако тут обоз снова тронулся, под заунывный женский вой, что раздавался впереди.
– Смотри, урус, все смотри! Так будет с каждым, кто себя плохо поведет и не будет послушным!
Степняк в грязном халате говорил на русском вполне понятно. Именно так Юрий и воспринял его слова. И он повернул лицо в левую сторону, понимая, что любое непослушание будет подавлено на корню самыми жесточайшими наказаниями.