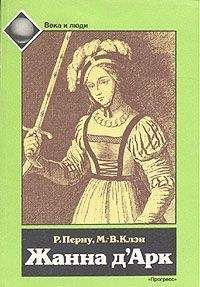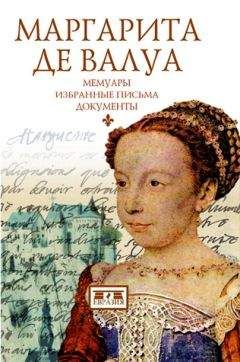Надо срочно возвращаться и выяснить, что за дела они там пытаются провернуть?!
– Какое сегодня число? – спросил Бэдфорд.
– Двадцать шестое, милорд.
– А когда она подписала заключение?
– Двадцать четвёртого, вечером. Вчера она надела женское платье и выслушала приговор.
– Какой приговор?! – вскинулся Бэдфорд. – Его что, уже огласили?!
– Да, милорд. Суд признал девицу Жанну виновной в еретических заблуждениях и приговорил её к…
Секретарь полез в бумаги, чтобы процитировать точно, и, как показалось Бэдфорду, возился целую вечность.
– Вот, нашёл! «К вечному заточению на хлебе страдания и воде скорби».
У Бэдфорда отлегло от сердца. Слава Господу, вынесенный приговор как раз такой, какой и надо. Значит, можно не спешить.
– Велите всё приготовить к отъезду, Ринель, – распорядился он. – Мы поедем в Руан… завтра.
(вечер 27 мая 1431 года)Клод, за ногу прикованная к стене, сидела на соломе, которая не менялась, кажется, целую вечность и уже начинала заражать гнилостным запахом всё вокруг. Выбрать из неё соломинку почище и твёрже было почти невозможно, но девушка такую нашла, и теперь сосредоточенно пыталась подсунуть её под железо на ноге, чтобы хоть немного унять зуд от потёртостей.
Уж и так она старалась двигаться, как можно меньше. Но вставать и ходить по естественным надобностям всё же приходилось. Плюс к этому, постоянная сырость, которая словно въелась в стены, и духота, которая, вот уже несколько недель изнуряет её куда больше, чем холод в самом начале заточения.
Клод поелозила соломинкой, однако сделалось ещё хуже. Закованная щиколотка распухла, палец под кандалы больше не пролезал, а сухая травинка только щекотала. Пришлось потереть саднящую кожу самими же кандалами. Противная тупая боль тут же отдалась где-то в затылке, но девушка только тряхнула головой. «Когда-нибудь это закончится», – сказала она себе.
Это бессмысленное заточение следовало переносить, не добавляя себе мучений лишними вопросами. Да, её не вызывали ни на какие допросы, и сюда к ней тоже никто не заглядывал, как будто никакой Клод вообще не существовало. Но, во-первых, тут она была ближе к Жанне, чем в любом другом месте, (исключая, конечно, камеру самой Жанны, но туда Клод никто бы не пустил). А во-вторых, зачем-то она была тут нужна, потому что иначе ничем нельзя объяснить тот факт, что её тоже выкупили у герцога Бургундского.
Поэтому Клод и велела себе ни о чём грустном не думать и, раз уж повлиять она ни на что не могла, принимать эту новую данность, как и всю прожитую жизнь, с ясной уверенностью, что всё когда-нибудь разъяснится и завершится. Поэтому она запаслась терпением и ждала. А чтобы не было очень тоскливо и совсем уж бесцельно, перебирала мыслями всё, что было в её жизни памятного. Как эмбрион в материнской утробе всасывает всё, что необходимо ему для роста, так и Клод в своей камере отгородилась ото реальности коконом воспоминаний, выбирая оттуда самое значимое, самое важное, что обязательно понадобится в жизни новой, которая, как она считала, обязательно наступит.
Стражники, менявшиеся возле её решётки, сильно не мешали. Первым двум, которые стерегли её дольше других, быстро надоело насмехаться и оскорблять по всякому узницу, которая их насмешек и оскорблений словно не слышала. Они даже перестали со временем бросать ей еду через прутья, а протягивали в руке, а то и вовсе заходили внутрь, чтобы поставить перед Клод миску с остатками варева, которое не доели сами. Причём, как она подозревала, не доедали стражники нарочно, потому что еды оставалось всё больше и больше.
Но потом этих двух заменили. А новые не успели даже как следует понасмешничать, потому что и их сменили тоже.
С тех пор стражники у двери Клод стали сменяться часто. Но она заметила, что некоторые, спустя какое-то время, снова появляются на посту, и стала развлекать себя тем, что загадывала – придёт ли завтра кто-то уже знакомый, или совсем новые? И, если придёт знакомый, то кем он окажется, «своим», или «чужим»?
«Своими» Клод называла тех, кого, по разным причинам, считала людьми хорошими. К примеру, тот толстый и добродушный, который всё время пыхтел и, просовывая еду, беззлобно ругался, дескать, тощая, а ест много, однажды выронил из кармана совсем новенькую детскую игрушку, которую тут же перепрятал за пазуху, бережно и любовно. А другой, похожий на лягушку из-за слишком большой головы, долго и нагло смотрел на Клод, изо всех сил скрывая жалость в глазах, а потом, будто бы насмешничая, наговорил всякого о том, что «ваша французская ведьма» приезжих попов ни во что не ставит, и они разбегаются кто куда, потому что жидковаты в вере оказались. Но ничего, вот приедут посланцы от папы и живо её отправят на костёр! И у девушки, после появления этого лягушонка, несколько дней потом теплела в душе самая искренняя благодарность. Ведь он, фактически, рассказал ей о процессе! О том, что Жанну никак не могут ни сломить, ни обвинить! И она даже не скрывала радости, когда парень снова появлялся, и выделила его среди других, дав прозвище «Тэт»55.
О «чужих», как только угадывала в них то, что никак не могла причислить к «своим», старалась не думать. И в те дни, когда караулили только чужие, уходила в мысли и воспоминания так далеко, что порой не замечала не только оскорблений и всяких непристойностей, но и брошенной в камеру еды. Это стражников, конечно, злило, но, видимо, им было настрого запрещено узницу трогать. Поэтому, как только Клод поняла, что физического насилия над ней не будет, жизнь в заточении стала казаться и вовсе сносной.
А потом наступила весна. Всё чаще возле её решётки стал появляться Тэт. Правда, он никогда не был один – всё время с каким-нибудь другим стражником – и почти всегда сидел к Клод спиной, слишком стараясь показать, что нет у него никакого дела до неё. Но недавно вдруг пошептался о чём-то со своим напарником, сунул ему в руку несколько монет, и тот ушёл, радостно подбрасывая монеты на ладони. Тогда Тэт повернулся и спросил у Клод:
– Пить хочешь?
– Хочу, – ответила она.
Тэт налил полную кружку, аккуратно просунул сквозь прутья, а когда девушка подошла, чтобы её принять, вдруг зашептал скороговоркой:
– Тебе передать просили, что какой-то барон уже в Руане, и его люди тоже. Что регент готов обменять Жанну на Толбота, а значит, и тебя держать здесь не станут, так что, барон тот готов сразу же тебя забрать, чтобы там ничего… а то, мало ли что… Вот я тебя и выведу, когда время придёт.
Клод едва не поперхнулась. С ней давно никто не говорил о чём-то, что не касалось еды и прочих нужд в заточении, так что в первую минуту она поразилась давно забытым ощущениям – С НЕЙ ГОВОРЯТ! – и только потом дошёл смысл сказанного.
Значит, Жанна победила, и Божья воля ещё сильна в этом мире!
С неизъяснимой благодарностью Клод вернула кружку. А когда повернулась снова к своей камере, поразилась тому, как умеет надежда всё преображать! Уже и солома не так воняла, и воздух показался куда свежее!
Неужели это всё скоро кончится, и кончится хорошо?!
Ах, скорей бы! А то нога совсем, совсем распухла! И чешется… ох, как чешется!
Голоса из коридора, что вёл к камере, послышались во время совсем неурочное. Стражники в такой час никогда не менялись, а посетители сюда не заходили. Разве что…
Клод быстро стряхнула прилипшие к юбке соломинки и привстала.
Неужели суд закончен?
Если да, то кто идёт к ней? Или уже за ней?
Тёмный поворот осветился светом сразу нескольких факелов, но дальше прошли всего два человека, а остальные, сколько бы там их ни было, явно вернулись назад, судя по тому, как отдалились и потускнели отсветы их факелов.
Один из тех, которые пришли, довольно грубо велел стражникам убираться и бросил к решетке объёмистый узел. Потом поклонился второму, который взмахом руки велел уходить и ему. Клод всматривалась в лицо этого второго, но он никак не выходил из тени. И только когда провожатый скрылся из вида, человек шагнул вперёд.
Ужас, никогда прежде не испытанный, словно проник сквозь решётку и заполнил собой всю камеру, ещё до того, как девушка узнала… Это был тот самый епископ, который когда-то уже беседовал с ней у герцога Бургундского! И уже тогда Клод почувствовала исходящую от него опасность. В чём конкретно она состояла, разобрать было сложно – в этом человеке намешалось много всего, и ложь, и высокомерие, и трусость того, кто был льстив и жаден, потому что никогда ничем истинно не владел, а всё, что получил, было так, или иначе, своровано у других. Но было в нём и что-то ещё – самое главное – чего Клод никогда и ни в ком не встречала. И теперь, за одно мгновение, она вдруг отчётливо поняла, что это было! ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВЕРЫ! Веры во всё то хорошее, что существовало на свете, включая сюда и людей, и их чувства.