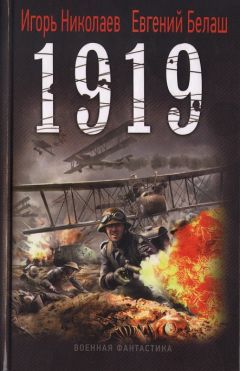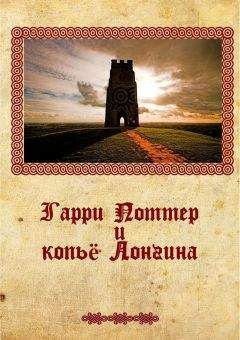Это было по-своему трагично и очень грустно — чувствовать искреннюю привязанность к человеку и в то же время быть не в силах выразить ее как-то иначе, нежели через теплый взгляд и добрую улыбку.
— Скоро я ухожу, — сказал он, просто чтобы что-нибудь сказать, разбить словами звенящую тишину, прерываемую лишь нестройным пением снизу. — Пора.
— Я понимаю, — ответила она, глядя куда-то вниз, сложив ладони на небольшом мешочке, увесистом на вид, наверное, с каким-то рукоделием. — Я понимаю…
— Береги себя, мама… — Слова получались какими-то надуманными, вымученными. Рудольф чувствовал, как стены этого дома словно стискивают его, не давая вздохнуть полной грудью. На фронте, в перерывах между полетами он мечтал о том, как окажется дома, в тишине, там, где смерть не ждет любой промашки, чтобы напомнить о себе. Теперь же ему хотелось как можно скорее сесть на поезд и вернуться к своим, туда, где все просто и понятно, где слова грубы, но всегда однозначны и искренни.
— Конечно, сын… Обязательно.
Рудольф собрался было встать, но мать неожиданно резко наклонилась, быстрым движением положила ладонь ему на колено, вынуждая остаться сидеть.
— Возьми.
Она протянула ему мешочек. Рудольф машинально принял его, оценив вес и угловатые выступы. Не похоже на нитки и наперстки.
Он осторожно распустил завязки. Почему-то вспомнилось, как они с братом сделали маме подарок на день рождения — хрустальный шарик. Сорванцы подобрали матерчатый футляр с «горлышком», заведомо меньшим, нежели шарик. Футляр они аккуратно распороли по шву, поместили туда подарок и так же аккуратно зашили, предоставив маме возможность поломать голову, пытаясь извлечь шарик. Шутка граничила с обидным розыгрышем, но все же получилось очень весело.
Так и есть — никакое это было не рукоделие.
Монеты. По двадцать марок, в каждой — почти восемь граммов золота, такие не чеканили уже почти двадцать лет. В нынешние голодные и бедственные времена — целое состояние.
Рудольф взглянул на мать, и в его взгляде был тяжелый гнев.
— Забери! — Он почти бросил мешочек ей на колени, содержимое отозвалось глухим звяканьем. — Неужели ты думаешь, что я возьму хотя бы одну?
— Ты возьмешь их, — ответила мать.
— Мне хватает жалования. А ты спрячь их, — убедительно попросил Рудольф и осекся, глядя в глаза матери.
— Ты возьмешь их, — повторила женщина, и в ее голосе был суровый приказ, тот, что изредка проявляется в словах даже у самых кротких из них и заставляет беспрекословно слушаться сильнейших из мужчин. — Я не пропаду. У меня есть кров и пища. А ты идешь на войну. Сын, у меня есть уши, а у людей в городе есть языки. Я знаю, что происходит… там… Ты можешь быть ранен, ты можешь заболеть. Или что-то случится с твоими друзьями. Или ты попадешь… попадешь в плен… — Ее голос дрогнул, но Марта Шетцинг справилась с собой и продолжила горячую речь, идущую от сердца: — Я хранила эти монеты много лет, с самой свадьбы. Я знала, что ты не примешь их, и не предлагала, но теперь… Я чувствую, что пришло время. Они пригодятся тебе. Возьми.
И Рудольф сдался. Он был молод, горяч и горд, в любой другой момент сын с негодованием отверг бы дар, но… Теперь он знал, что отказ разобьет материнское сердце, обернется невыразимыми страданиями женщины, предчувствовавшей мнимую беду.
И он взял мешочек.
— Я верну их, мама. Я вернусь сам и верну эти деньги.
— Дай бог, сынок… — Марта порывисто обняла его. Казалось, еще вчера она держала на руках плачущего младенца, а сейчас малыш вырос в молодого, сильного мужчину, который сам мог бы носить ее на руках. С неженской силой она прижимала к себе сына, словно материнская любовь могла защитить его и успокоить страшное предчувствие беды, что точило ее душу.
За четыре дня до начала UR
В самом начале войны часто случалось, что солдаты на марше бросали лопаты и прочий шанцевый инструмент. Не менее часто они очень горько жалели об этом, зачастую в тот же день. Иногда — в тот же час, когда под внезапным ураганным огнем противника тем, кто хотел уцелеть, приходилось зарываться в неподатливую землю штыками, касками, кружками и голыми руками. Это был горький опыт, который пошел впрок, уже через пару месяцев каждый человек на фронте знал, что без винтовки солдат еще может выжить, а без лопаты — нет. Земля стала лучшим другом и проклятием пехотинца. Она уберегала его от пуль и снарядов, она же размокала от дождей, превращаясь в гнилостное болото, а камни и комья земли, разбрасываемые взрывами, убивали и ранили не хуже осколков.
На пятом году войны те первые окопы и траншеи, вырытые второпях, неграмотно — тесные, неглубокие и прямые, развились в невероятно сложную многоуровневую систему защиты. Окоп девятнадцатого года даже «окопом» было назвать сложно, настолько новые траншеи — причудливо изломанные, тщательно замаскированные и детально продуманные — не походили на своих предков.
Каждый стрелок, тем более снайпер или пулеметчик, оборудовал себе укрепленную позицию-нишу, защищаясь пуленепробиваемыми стальными пластинами, нередко двойными, а также мешками с песком, кирпичами и деревянными щитами. Такая позиция представляла собой мини-каземат, обитатель которого взирал на мир сквозь крохотные амбразуры. Но, конечно, не сразу, а предварительно выставив в открытую амбразуру фуражку и подождав с минуту. Ни одна пригоршня извлеченной из окопов земли не пропадала зря, из нее воздвигали валы, внешнюю обсыпку бруствера и пулеметно-минометные площадки. Маскировочная марля, веревочные и проволочные сетки сменили былые мусорные кучи, легче легкого указывающие противнику, куда ему стрелять.
Но это был еще не венец сбережения солдата от убийственного огня неприятеля. В собственно окопе прорывались многочисленные ниши и штольни, зачастую многометровой длины, соединяющие оборонительные линии. Штольни были укреплены надежными деревянными рамами. Некоторые из этих подземных нор уходили вниз на двенадцать и более метров, а в других легко размещались даже танки и железные дороги узкой колеи, по которым к жаждущему фронту доставлялись снаряды и саперное имущество. Многочисленные ответвления вели к нейтральной полосе и вражеским позициям, эти кротовые норы использовались для вылазок, прослушивания и минных работ.
Подобно гигантской паутине, километры таких тщательно укрепленных ходов и переходов связывали между собой многочисленные опорные пункты, расположенные в шахматном порядке, находящиеся во взаимной поддержке и огневой связи. Блиндажи закапывались еще глубже, считалось нормальным, если подошва окопа находилась на уровне самого верхнего перекрытия блиндажа, защищенного слоями земли, балок, бетонных плит и камней, дополнительно залитых цементом.[39]