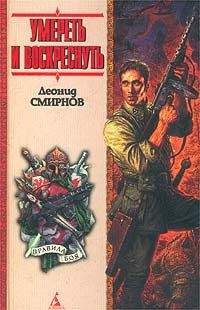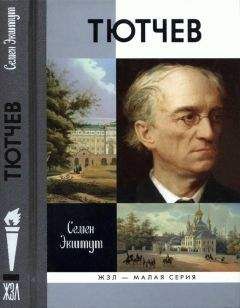Отец не мог мириться с тем, что жителей Кедрина изо дня в день настраивают против и-чу. А потому одновременно с поисками чудовища он отобрал шесть особо надежных бойцов Гильдии и поставил во главе отряда Игната Мостового. Они получили секретный приказ и в безлунную ночь незаметно для городской стражи отбыли из Кедрина. Я, как и прочие и-чу, мог сколько угодно ломать голову, строя предположения одно невероятней другого.
Глава шестая
По волчьему следу
Инспектор Бобров со встречи с вервольфом не давал о себе знать. И я стал помаленьку забывать о страшном оборотне. Затмили его бешеные псы и последующие события. Вот только о Милене я ни на день не забывал. О моей первой и единственной возлюбленной.
Звонок господина Боброва застал меня врасплох. Инспектор предложил встретиться приватно — на пятой скамейке главной аллеи Архиерейского сада. Причину встречи он не назвал, дескать, не телефонный это разговор. Пришлось поверить на слово.
Инспектор вольготно развалился на белой деревянной скамье с черными чугунными лапами, которые я почему-то всегда считал львиными. Бобров раскинул руки, поднял лицо к небу и блаженно щурился, улыбаясь углами рта. Светило солнце, уставшее от зарядившего на неделю дождя. Дождя, который погасил горящий лес и поверху притушил торфяники. Воздух был мокр и свеж. В лужах горели золотые огоньки.
Глядя на Боброва, я минуту постоял за фигурно подстриженными кустами черноплодной рябины. Что у него на уме? Не понять. Я тихонько подошел к инспектору. Его сощуренные глаза открылись.
— Здравствуйте, Игорь Федорович. — Он широко улыбнулся и гостеприимно похлопал ладонью по скамейке.
— Добрый вечер, господин инспектор, — равнодушно ответствовал я. В последние дни я усиленно тренировался, учась целиком и полностью владеть своими эмоциями, мимикой и артикуляцией.
— Зачем же так официально? — вроде бы огорчился он. — Зовите меня лучше Сергеем Михайловичем.
— Договорились, — все тем же отрепетированно равнодушным тоном произнес я и наконец удосужился сесть рядом.
Начал господин Бобров издалека. Всем известно, что в тайге живет чернокожее племя нгомбо. Оно возникло во время Мировой войны на руинах фильтрационного лагеря беженцев из Сахеля. Тогда африканцы переселялись в Европу целыми племенами. И не только африканцы — с затопленных морем низин Восточной Бенгалии бежали десятки миллионов индусов. Их судьбе не позавидуешь. Эпидемия холеры и лютые морозы выкосили половину беглецов.
А вот неграм-нгомбо повезло больше. Они прижились в наших краях. Малограмотные и напуганные жизнью люди считают нгомбо каннибалами. Большей чепухи трудно придумать, однако дурные слухи не развеяло даже всеперемалывающее время. Многие кедринцы твердо убеждены: негры охотятся за маленькими детьми и варят их в огромных котлах. Людям нужен враг — живой, доступный и желательно вовсе не опасный. Сначала это были хитрые цыгане, потом — злые «бабаи», теперь — злобные, а на самом деле запуганные до смерти нгомбо. Словом, очень удобный враг.
А с недавних пор в деревнях Кедринского уезда кто-то усиленно распространяет слухи, будто скоро произойдет массовый нерест людоедов-нгомбо (именно так — нерест), полчища чернокожих убийц выйдут из лесов, и тогда живые будут завидовать мертвым.
Народ, понятное дело, схватился не за хлысты и дреколье, а за охотничьи ружья и припрятанные с войны пулеметы «трофимыч». Повсюду стали возникать никому не подчиняющиеся отряды самообороны. И отряды эти теперь готовятся перерезать чугунку и требовать у губернатора сбросить на тайгу «бонбу». Потому что мужики уверены: голыми руками людоедов не возьмешь и без серебряных пуль даже пулеметы против них бессильны.
Попытки урядников успокоить тревогу и вернуть мужиков на поля, ведь сбор урожая в разгаре, к хорошему не привели. Нескольким начистили физиономии, остальным просто пригрозили. Да полицейским и без того известно: когда наш народ всерьез разозлится, с ним лучше не спорить, а если все-таки встрял — спину не подставлять.
И есть любопытная деталь: почти в каждой мятежной деревне видели некоего чужака с лошадиной физиономией. И говорил он, что горожанам на деревенских плевать, пусть их живьем язычники жрут — городские пальцем не шевельнут. Они, мол, и своих не жалеют — только что позволили псам смердящим сожрать тыщу человек. Народ слушал, мрачнел и крепче сжимал в руках двустволки.
Тут я впервые перебил господина Боброва:
— Сергей Михайлович, зачем вы все это рассказываете? Неужто надеетесь, что я сунусь в эти чокнутые деревни и начну ловить нашего общего знакомого?
— Приятно иметь дело с умным человеком, — заулыбался в ответ инспектор. — Мы поедем туда вместе. Как говорится, на миру и смерть красна.
Я не знал, что и ответить: свести предложение к шутке или послать этого типа куда подальше. Молод я был посылать взрослых дядей, да еще при исполнении. И шутить как следует не научился. А потому промолчал. Губы сжать — это всегда легче.
Не дождавшись возражений, господин Бобров надел маску искреннего довольства и заурчал, словно объевшийся сметаны котяра:
— Спасибо, голубчик вы мой! Не знаю, как вас и благодарить-то! Молчание — знак согласия, Игорь Федорович. Согласия, любезный друг!.. — подчеркнул он, чтоб мне некуда было отступать.
Отступить, конечно же, я мог, да гордость проклятая помешала — фамильная она у нас.
Поймав меня на крючок в Архиерейском саду, Бобров отправился ловить моих родных. Это было занятие посложнее. Отец у меня не лыком шит. Мать, как всякая женщина, сердцем чует, к тому же моя мать — почище всякой. Ну и деда на бобах не проведешь. Но инспектор ухитрился, однако, взять господ Пришвиных на фук — профессионал он по вранью. Служба у него такая.
Заранее сочинил он для меня легенду, как для настоящего разведчика, которого засылают куда-нибудь к моголам или оттоманцам. Тщательно отработал детали, провел репетицию, заставив меня задавать ему самые каверзные вопросы, и был готов к любому повороту разговора. Да и знал он неплохо моих родителей — и раньше знал, а теперь изучил особо.
Было как раз время ужинать, и Боброва первым делом усадили за стол. Славным борщом накормили — со сметаной, в которой ложка не тонет. Кроликом тушеным попотчевали, да с моченой брусничкой. А запивать это дело следовало можжевеловой настойкой домашнего — по особенному рецепту — изготовления. Перед ней даже идейные трезвенники устоять не в силах. Много раз рюмочка перебывала в его широкой лапище, густо поросшей черной с проседью шерстью. Рот с готовностью приоткроется, локоть взметнется, словно честь отдавая, кадык перекатится, и горячая сладковатая волна омоет сердцевину инспекторова крепкого тела…
Откушали мы — с чувством, с толком, с расстановкой. Девочки унесли грязную посуду на кухню. За столом остались впятером: отец, мать, дед да мы с инспектором. Откинулся господин следователь на спинку стула. Сытые у него глазки были, сонные даже, но ума в них ничуть не убавилось. Заговорил медленно, ласково почти, умурлыкивая нас — вздрюченных, с нервами как тугая тетива натянутыми. Это с виду мы железные, внутри-то — люди как люди. Грешны и страдающи.
— Забрел я к вам, любезные мои хозяева, не просто так. Врать не стану. По делу служилому забрел. У сына вашего старшего, Игоря Федоровича, долг перед Отечеством обнаружился. Так, пустячок вроде, а исполнить требуется. Как гласит Его Величество Закон Сибирской нашей Республики, содействие дознанию и уголовному следствию — священный долг каждого гражданина. Опознать надо лютого убивца, налетчика, что задержан в деревне Волочаевке Ка-дынской волости. Видел сыночек ваш, как это исчадие диа-волово женщину с ребеночком в заложники взял, от стражи спасаясь, но по моей слезной просьбе Игорь Федорович вам не рассказывал. Давненько это было, да поймали лихоимца только теперь. Ранили его в перестрелке, привезти сюда никак невозможно. На место надо поспешать.
И все такое прочее… Красиво брехал Бобров. Переигрывал малость, но это легко было списать на действие можжевеловки. Два часа застольного разговора — и дело сделано: мои отец и мать дали свое родительское согласие. Умеючи, можно обмануть даже архангела у райских врат.
Мой семнадцатый день рождения отметили в походе. Это было вчера — в мокром, продуваемом всеми ветрами березняке. Сварили пунш из самогонки пополам с рябиновым вином и знатно отметили, заодно полечившись от простуды. Тянули пьяными голосами задушевные народные песни. Особенно мне нравилась «По диким степям Забайкалья», я просил спеть ее снова и снова. Сначала уважили именинника, потом сказали строго — словно капризному ребенку, требующему Луну с неба: «Хорошенького понемножку», и я увял.
А сегодня опять марш. Кони осторожно ступали по схватившемуся под утро ледку. Копыта скользили, кони храпели, седоки натягивали поводья и костерили несчастных животин, проклятущую судьбу и сволочную погоду — в бога, в душу, в мать. Днем ледок растаял, и отряд снова шел по раскисшей земле, по единой сибирской дороге, протянувшейся, казалось, от самого Уральского Камня и до Охотских морей.