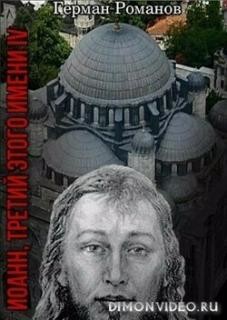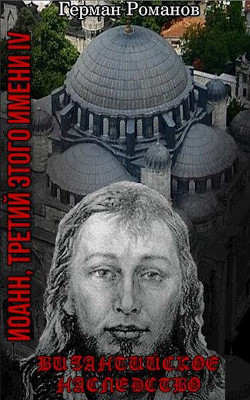И после долгого перехода оказались, к величайшему удивлению Юрия, на месте, где в будущих временах должен был стоять город Евпатория! Вот такой оказался Кезлев!
На окраине городка Ахмед, а так звали хозяина, имел дубильню, где выделывались кожи. От местного «производства», когда Юрий впервые на него попал, шел настолько вонючий запах, что стало понятно, почему кожевенников изгнали далеко от селения. Вот здесь, в компании трех крепких, но угрюмых рабов, и оставили Смальца – тот имел крепкие пальцы, чтобы мять извлеченные из чанов шкуры. Проверили на эту работу Галицкого, но тот оказался настолько слаб, что был с позором изгнан из дубильни, чему поначалу обрадовался – жить в пропитанном вонью помещении совершенно не хотелось. Лучше на степном, привольном воздухе…
Если бы он тогда знал о том, что его ждет!
Вблизи от Кезлева, верстах в десяти, оказались владения Ахмеда – там у него было родовое стойбище. Юрий поначалу с интересом рассматривал две юрты – в одной проживал хозяин, в другой находился его гарем. Татарин имел две жены, одна другой страшнее и мерзостней, старую и чуть по моложе, а также красавицу дочку лет четырнадцати, с ласковым именем Зульфия. И еще одного сына, совсем юнца, что с пастухами аратами постоянно пас скот – тысячная отара овец и большой конский табун все лето передвигались по огромному кругу, от колодца к колодцу.
Вообще-то сыновей было трое – но двое, уже женатые, погибли в набеге, причем от казацких сабель. К таковым неприятностям работорговцы во многих поколениях привыкли, неизбежные риски в профессии, так сказать. И восприняли стоически, как предначертанную судьбу – кисмет!
Все в воле Аллаха, а потому нельзя роптать!
На безутешных зрелых вдовицах срочно оженили паренька, что стал приемным папашей трех деток как бы в нагрузку – абсолютно прагматичный подход, раз калым давно уплачен.
В селении их не было – кочевали с юным супругом в кибитке, так сказать, разделяя его в трудах, и к лучшему – иначе бы Юрию совсем плохо стало. Ибо две оставшиеся мегеры изводили его всячески, лупцуя палками за любую вину, вольную или невольную, но чаще ими придуманную. А так как обе бабищи были вздорные, то избиения шли несколько раз на дню. Без выходных и проходных, как говорится!
– Урус, ты где, собака паршивая?!
Галицкий моментально вытер выступившие слезы рукавом грязного и дырявого халата, машинально поддернул изодранные ветхие шаровары, и выскочил из глинобитного сарая, в котором занимался «шибко умственной работой», как он ее с усмешкой называл – укладывал кизяки на зиму. А еще он их ежедневно готовил – процесс оказался несложный, но противный, однако лучше чем в дубильне.
– Да, госпожа, я здесь! Кизяки укладываю!
Юрий склонился в поклоне перед старшей ханум. Толстой, с черными усиками над верхней губой и недовольно сжавшимся в куриную гузку ртом. Она была старше своего мужа лет на пять, а потому к пятидесяти годам еще не подошла. Просто тут люди выглядели намного старше, чем в его времени, и многие сорокалетние считались стариками. И все просто – раз внуки есть – значит, к тебе уже подступила старость.
– Кизяки укладываешь?
Голос бабищи, которую Юрий мысленно обозвал «Лошарой», чуть подобрел, но самую малость – она день напролет наблюдала за рабом, всячески подгоняла гяура и считала, что если он остановился передохнуть хоть на немного, то является преступником.
– Пойдем, посмотрим, как ты их уложил, пес!
– Хорошо, моя госпожа!
«Это добрый знак, что она меня собакой называет. Если бы гяуром окликнула, то все, писец – отведал бы палки», – Галицкий с тоской посмотрел на увесистый дрючок в руках пожилой женщины, которым уже много раз его охаживали на удивление крепкой рукой. Плохо то, что увернуться от ударов было нельзя, как и прикрываться рукой.
В первый раз по незнанию он сделал это, за что был вначале нещадно избит татарами. А потом выдран плетью хозяином с предупреждением, что следующий раз за непокорство его просто охолостят как барана, без всяких затей, чтоб послушным стал.
Такая перспектива ужаснула парня, и он стал на диво покладистым – все же лелеял надежду вырваться из рабства и жениться, заведя детей – на это несколько раз намекал Смалец.
– Так идем, пес!
– Да-да, хозяйка!
Юрий заторопился – в душе радуясь что многочисленные мазанки привел в порядок. Сейчас они все пустые, но к зиме в них загонять для окота будут овец и жеребых кобылиц ставить. Вот тогда ему работы многократно прибавится – ибо татары пастухи ничего делать не станут, когда есть в подчинении хотя бы один христианский раб.
А таковых в стойбище было трое – сам Юрий, малец-валах, речи которого он не понимал, а татарских слов для общения не хватало. И русская девица по имени Варвара, пригожая, крепко сбитая, грудастая. Ее можно было бы назвать красавицей, если не обращать внимания на покрытое рытвинами лицо, на которое даже смотреть неприятно. Впрочем, с ней он не общался ни разу – запрещено под угрозой немедленной кастрации. И это не шутка, как могло бы показаться в 21-м веке, а спокойное предупреждение о наказании, которое последует неотвратимо.
– Так, вижу, что действительно уложил все правильно. Тебе не в Ису надо было верить и поклоны бить, а работать! А так ты ничему не научился, бездельник. Ничего, я не таких невольников заставляла работать, и тебя научу! Снимай штаны!
– Зачем, госпожа…
От такой команды Юрий опешил, попробовал спросить, не поняв, зачем нужно оголяться. Но осекся под грозным взглядом ханум, которая стала поигрывать увесистой палкой. Понимая, что играет с огнем, он приспустил шаровары и стоял молча, отчаянно краснея.
– А «он» у тебя ничего, потому делом сейчас займешься!
Хозяйка подошла к нему вплотную и уцепила крепкими пальцами «хозяйство». Галицкий стоял окаменевший от накатившего страха, ни жив, ни мертв, а в голове билась отчаянная мысль – «а вдруг сейчас мне все оторвет старая сволочь?»
Старая ханум не оторвала съежившийся до размеров наперстка «отросток», вышло все гораздо хуже – она наклонилась над грудой кизяков, спустила шаровары и подняла полу халата – Юрий смертельно побледнел, увидев в потемках сарая, в одиноком солнечном луче дряблую женскую задницу впечатляющих размеров.
– Я не могу, госпожа…
– Я тебе не нравлюсь?!
От грозного рыка у Юрия ушла душа в пятки. Он прекрасно понимал, что может ее здесь прибить, но то, что потом сделают с ним татары и представить боялся. Степняки были очень большими выдумщиками по части различных казней и мучительств, он уже на них насмотрелся. И становиться жертвой экспериментов категорически не желал.
– Нравишься, ханум…
– Тогда что стоишь? А, у тебя не встает?! Это хорошо, бею Кезлева молодой евнух в гарем нужен, старый совсем ослеп, не может никак справится всего с шестью женами и наложницами. Ты его заменишь, завтра же за тобой приедут нукеры бея…
– Нет, нет, госпожа, он уже встает! Ты прекрасная ханум, лучшая роза Крыма, достойная цвести в садах Бахчисарая, Стамбула и Иерусалима. Ах, как ты прекрасна в стихах поэта, страдающего от импотенции и больного гонореей – он был бы рад утолить твои желания!
От дикого страха Галицкий стал лихорадочно молотить всякую чушь, стараясь выиграть хоть немного времени. Для спасения самого драгоценного, что у него осталось – превращаться в евнуха бея, да попасть под власть полудюжины озверелых от сексуального голода женщин (бей преклонных лет старик – он его раз увидел с расстояния), Юрию категорически не хотелось. И хотя у него давно не было женщины, но сейчас он абсолютно не испытывал возбуждения, а лишь липкий страх.
– Ты говоришь как настоящий поэт! Мне сказали, что ты в медресе пророка Исы не только учился, а еще и учил. Первый раз вижу образованного гяура, и, надеюсь, в последний!
– О нет, госпожа, я постараюсь утолить страсть в твоих чреслах и разбудить костер познания! Просто день был тяжелым, а меня плохо кормят. Ведь если ветки не подбрасывать в пламя костра, то оно погаснет. Но если кормить огонь хорошим кизяком, то он сотворит чудеса и согреет уставшую от житейских хлопот прекрасную пэри.