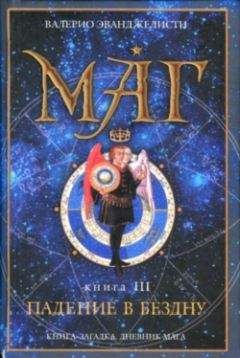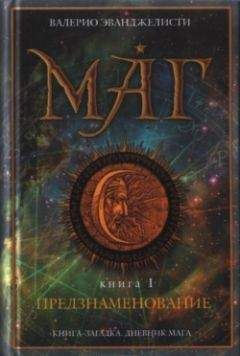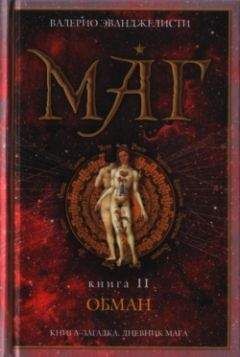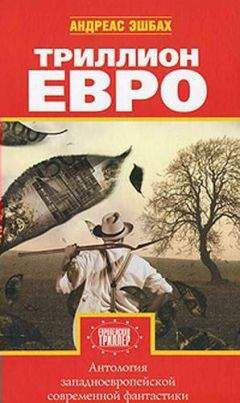Мишель был раздосадован, что его отвлекли от размышлений, но постарался улыбнуться.
— Инцидент исчерпан, если он действительно имел место. И уж конечно, вы к нему непричастны.
— Хотите, подвезу вас до дома?
— Мой дом в двух шагах.
— Это солидное расстояние для того, кто страдает подагрой.
Мишель почувствовал себя слегка униженным. Конечно, все знали о его болезни, но он предпочитал видеть себя сильным и властным мужчиной, далеким от земных невзгод.
— Спасибо, я прекрасно доберусь сам.
Антуан Марк наклонился к нему.
— Все равно садитесь, доктор. Я ищу вас весь вечер. У меня для вас известие.
— Известие? От кого?
— Он назвался вашим другом, но я ему не очень-то верю. У него такое зловещее, перекошенное лицо… Его зовут доктор Пентадиус.
Дрожь прошла по телу Мишеля. Он почувствовал сильное головокружение и тошноту. Голос сразу осип, хотя и звучал спокойно.
— Спасибо, я сяду в экипаж. Но тут нет места…
— Не беспокойтесь, я выхожу. Я уже дома, — сказал Франсуа Берар.
Аптекарь почти втащил Мишеля на сиденье. Как только он уселся, Антуан Марк тронул поводья. Мишель едва успел распрощаться с Бераром.
— Триполи, где вы встретили Пентадиуса? Он явился к вам в дом?
Триполи было прозвище Антуана Марка, которое он получил за склонность к путешествиям с приключениями. Теперь ему было около пятидесяти, и он оброс жирком, но в молодости побыл и шпионом, и искателем приключений, и повоевал в самых разношерстных войсках. По крайней мере, он сам так утверждал. Жители Салона, южане до мозга костей, слушали его байки разинув рот.
Триполи отрицательно покачал головой.
— Нет, я встретил его на улице. Он остановил свою карету рядом с моей двуколкой. С ним рядом сидела пышнотелая дама под черной вуалью. Когда Пентадиус меня окликнул, я решил, что он обознался, но он назвал меня по имени и оказался знаком с вами.
— И что он вам сказал? — нетерпеливо спросил Мишель.
— Он просил передать вам, что ваш учитель при смерти и находится в каком-то итальянском местечке. Перед смертью он хотел бы вас повидать и попросить у вас прощения.
— А вы не помните, как называется место?
— Нет, я даже у него не спросил. Уж очень у него рожа бандитская. Он говорил о какой-то «гробнице триумвира», которую вы якобы знаете.
Триполи скорчил свирепую гримасу, так хорошо известную во всех тавернах Салона.
— Если бы этот тип попался мне в темном переулке, я бы — вжик-вжик! — распорол ему брюхо шпагой. В Африке и Вест-Индии мне встречались такие типы с бегающими глазками, и я ни одного не оставил в живых.
Мишель не обратил внимания на бахвальство приятеля. Всю оставшуюся дорогу он молчал. У него имелись мысли насчет «гробницы триумвира», вернее, они имелись у Парпалуса, который их нашептал. Надо бы его расспросить. Но он вовсе не собирался ни снова увидеть Ульриха, пусть и при смерти, ни выслушивать его предполагаемые просьбы о прощении.
— Через несколько дней я поеду в Италию, — продолжал Триполи. — По делам консистории Лиона мне надо повидать нашего брата Пьеро Карнесекки. Мы считаем, что настало время вооруженных действий против этих мерзавцев католиков, пока они всех нас не перебили. Пары сотен хорошо обученных гугенотов хватит, чтобы преподать папистам хороший урок. Но мы должны согласовать это с Карнесекки, который основал консисторию и является нашим пастырем.
Эти слова вызвали у Мишеля сильную досаду. Он знал, что Триполи гугенот, да тот никогда этого и не скрывал, словно не понимал, насколько теперь это стало опасным. Природная толерантность провансальцев сильно пошатнулась. И если насилие, царившее в Париже и в Северной Франции, распространится и здесь, то Триполи не спасет ни то, что он брат первого консула, ни то, что он друг графа Танде. Меньше всего Мишелю хотелось, чтобы его втягивали в религиозные конфликты.
К счастью, они уже подъехали к его дому.
— Спасибо за приглашение подвезти, Антуан. К сожалению, ноги не позволяют мне столько путешествовать, сколько я бродил в юности. И приглашение Пентадиуса — не самое заманчивое.
— Совершенно с вами согласен, — сказал Триполи, помогая ему сойти. — Я заеду попрощаться перед отъездом.
— Для вас мой дом всегда открыт.
Мишель подождал, пока экипаж отъедет, и заковылял к дому. Уже стемнело, и улица была ярко освещена светом, льющимся из окон первого этажа. Жюмель обычно укладывалась рано, но нынче, должно быть, еще не ложилась. Это делало его возвращение малоприятным. Но бродить по улице, пока она не заснет, у него не было сил.
Он полез за ключом, но вдруг понял, что дверь приоткрыта. Он осторожно вошел в дом. Все светильники в коридоре были зажжены, но ярче всех сияла гостиная. Уж не хочет ли жена устроить ему сцену? Он сглотнул и двинулся в комнату.
Каково же было его удивление, когда он увидел, что в гостиной на диване сидит их служанка Кристина, на руках у нее годовалый Андре, Шарль, притулившись головкой к подлокотнику, спит, а Магдалена и Сезар играют на полу.
— Где Жюмель? — спросил он, стараясь отогнать охватившее его мрачное предчувствие.
Кристина в смущении распахнула голубые глаза.
— Она уехала, — сказала она тихо.
— Уехала? Как это уехала? — Мишель не мог поверить в то, что услышал.
Кристина указала на сложенный вчетверо листок бумаги на столе.
— Прочтите письмо. Наверное, там все сказано.
Мишель схватил бумагу, но, прежде чем прочесть, спросил:
— С кем она уехала? Мне кажется, к ней приходил незнакомец, верно? — Голос у него задрожал.
— Я никого не видела, — ответила Кристина, покачав головой. — Думаю, все сказано в письме. Единственное, что я могу сказать, так это то, что мадам долго паковала багаж.
— Я знаю, с кем она уехала, — мрачно прошептал Мишель.
Он подошел поближе к светильнику и развернул письмо. Почерк был корявый, и почти в каждой строке грамматические ошибки, что очень затрудняло чтение. Но смысл письма был предельно ясен.
С первой строки уверенность Мишеля улетучилась. То, что он прочел, в переводе на понятный язык выглядело так.
Дорогой Мишель!
Я решила оставить этот дом, может быть, навсегда. Не думай, что это было легкое решение. Я оставила детей, и сам можешь представить, какого страдания мне это стоило. Но я совершенно не представляю, как взять их с собой.
Ты был любящим мужем, и со временем наши отношения стали прекрасными. Не думай, что я упрекаю тебя за визиты в бордель. Ты прекрасно знаешь, что я была такой же, как тамошние девушки, и понимаю, что их посетители зачастую ищут вовсе не физического удовлетворения. В твоем случае я полностью исключаю плотскую страсть. Я была бы рада, если бы ты, поняв, что я все знаю, сам бы откровенно обо всем рассказал. Но ты этого не сделал. Однако, повторяю, дело не в этом.
Дело в том, что как у тебя есть своя жизнь, так и у меня есть своя. Юность моя прошла нелегко, но мало кто из женщин был в юности так свободен, как я. За ощущение, что принадлежишь только самой себе, я заплатила унижениями и насилием. Именно это заставило меня научиться читать и писать. Жизнь в таверне не кончается, когда уходят посетители. Она только начинается. Так называемые падшие женщины живут своей жизнью, о которой мужчины даже не подозревают.
А у семейной женщины своей жизни нет. Она посвящает себя либо детям, либо мужу. Муж может очень любить ее, но эта любовь для многих превращается в цепи. Ты существуешь не сама по себе, а только вместе с другим человеком. Многие женщины безропотно принимают ярмо. Я — нет, у меня не получается. Я пришла с улицы, где принадлежала только себе. И я не могу больше жить жизнью наседки.
Кончаю, потому что знаю, что ты не разберешь мои каракули. Но я должна была тебе хоть как-то все это сказать. Я ухожу искать свою судьбу далеко отсюда. Прошу тебя, позаботься о детях. Оставляю тебе все, что имею, от дома до личного имущества. Может быть, когда-нибудь увидимся.
Прощай. Анна Понсард, по прозванию Жюмель
Мишель несколько мгновений стоял неподвижно, ошеломленный, потом скомкал письмо в кулаке.
— Проклятый Пентадиус! — крикнул он в бешенстве. — Кого ты думаешь обмануть? Да ни одна женщина в мире не напишет такой чертовщины!
Он снова подступил к Кристине:
— Ты уверена, что никого не видела у дверей? Двуколки, лошади? И не вздумай врать!
Испуганная девушка замотала головой. Дети заплакали.
— Собери мои вещи, — сухо приказал Мишель. — Я должен найти Пентадиуса и освободить Жюмель.
И прибавил вполголоса:
— Гробница триумвира. Там-то я и найду всю окаянную шайку.
Падре Михаэлис был поражен. Он никогда не думал, что гугенотов так много и что они такие наглецы. Весь левый берег Сены, от аббатства Сен-Жермен до башен Лувра на том берегу, полыхал факелами. К 13 мая 1558 года тысячи людей съехались в Париж со всей Франции. Шесть дней спустя они все еще были здесь, и количество их все возрастало. Псалмы, которые они распевали (и среди них «Judica tua, Domine»[14], в переводе швейцарца Теодора Безе, звучавшие как угроза королю Франции), были слышны даже в Сорбонне.