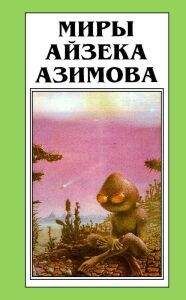не было. Всех победил мастерством. Даже когда пытался не очень умело скрыть это самое мастерство, да? — Он лукаво посмотрел на меня.
Седовласый мужчина поднял голову и проговорил с угрозой:
— Так вот оно в чем дело, Достали Мансурович…
— Владимир Наумович, вы подумали не о том! — возразил, покачав головой, Достоевский. — Парень отказался за меня биться, когда я предлагал. Представляете, да? — В его голосе внезапно прорезался кавказский акцент. — Но когда я увидел его сегодня, понял: вот он, сегодняшний чемпион! Вот на кого надо ставить! Вот, кто принесет мне деньги! Мамой клянусь, так и было!
— Что ж, это мы еще посмотрим, принесет ли, и кому… — с легкой угрозой в голосе сказал Топаз. — Не по понятиям поступил, Али.
На миг через интеллигентные и благообразные черты лица Достоевского пробился зверь:
— Я тебе мамой поклялся! Если этого мало, Топаз, другой разговор будет!
Секунду, две, три мне казалось, что эти двое сейчас схватятся. Официант, больше похожий на бодигарда, потянулся рукой под жилетку…
…и Топаз рассмеялся:
— Ты меня неправильно понял, Али. — Улыбка у него была приятная, голливудская, а зубы — как после прекрасного дантиста. Он подмигнул мне — Хотел сказать, что береги теперь Сашу. На него много охотников появится, и я не гарантирую, что мы останемся в стороне. Ведь так, товарищ Шуйский?
— Конечно, — кивнул седовласый.
Немного ошарашенный, я перевел взгляд на него. Это какой же именно из Семьи Шуйских? Не тот ли, что якшается с Карасиком?
— Поборемся, — кисло усмехнулся Достоевский и обратился ко мне: — Идем со мной, Саша. Здесь тебя не накормят, только обдерут как липку. Сложные люди, с ними такой простой парень, как ты, просто с голоду загнется!
Кивнув мужчинам, я пошел за Достоевским, а он суетливо, что превращало его в какого-то торговца арбузами, зачастил:
— Ты их не слушай, они волки, сожрут не подавятся! Плевать им не тебя будет, только поманят, а потом кинут, понял?
— Достали Мансурович, вы бы сами сначала покормили, — напомнил я ему. — А то я с ног валюсь. Жрать так хочется, аж переночевать негде.
— Переночевать? — не понял он. — В гостишку хочешь? Девочки будут, выпивка, все что хочешь.
— Шучу я, есть мне где ночевать. Пожрать бы.
— Понял. Сперва перекусишь, потом поговорим. — Он похлопал меня по спине.
И за это, и за интонацию базарного торговца, восхваляющего меня, как товар, хотелось врезать ему в морду. Не верил я ему ни на грош, но в чем-то он был прав: местные тигры и волки сожрут меня и не подавятся. Как и сам, будь он волк, тигр или шакал.
Но я, конечно же, сдержался, натянул на лицо улыбку. Спина начинала болеть от напряжения, скулы сводило от приклеенной улыбки. Желудок норовил взреветь, перекрывая музыку.
По пути я невольно разглядывал публику в зале для избранных. Смотрел на этот лоск, на буржуазный налет, покрывший собравшихся, будто золотое напыление, и не понимал, как это уживается с портретами вождей, глядящих с картины с такой укоризной, словно их не пригласили за стол. И ведь уживается! И развивается, я бы сказал, неплохо. Как говорится, пусть цветут все цветы, но не в моем огороде. Есть светлая сторона СССР, есть темная. Наступает ночь — на охоту выходит мафия. Не хочешь жить по правилам, переходи на темную сторону, но не лезь куда не следует.
С этими мыслями я вместе с Достоевским подошел к тому самому столику, где сидела красавица. Я неторопливо пропустил смотрящего по рынку, и он сел возле седого краснощекого фарцовщика. Торгаша в нем выдавали пестрая вульгарная рубашка и очки в золотой оправе. Слишком ярко для номенклатуры и преступного мира. Хотя, может, он цыган?
— Садись, Саша, — сказал мне Достоевский, указав на свободное место возле грудастой брюнетки.
Эта дама была среди публики возле красавицы в соболиной шубке. Я сел между нею и пожилой дамой в очках с «муравьиной кучей» на голове. Грудастая коснулась моей ноги своею, а пожилая демонстративно отодвинулась, прикрыв нос. Воняет ей, видишь ли… Ну-ну.
— Ну что, товарищи, — провозгласил смотрящий рынка, вставая и протягивая бокал с коньяком. — Давайте выпьем за чемпиона!
Запорхали официанты, разливая напитки по бокалам, стаканам, рюмочкам, а Достоевский продолжал:
— Запомните этот день! Я уверен, что пройдет немного времени, и мы будем гордиться тем, что жали руку этому парню. Вы знаете: я вижу, кто чего стоит, какое у кого будущее. У Саши оно огромное!
— Прямо-таки огромное? — хихикнула фигуристая девушка с наглым лицом.
— Очень, госпожа Лесневич, — подтвердил Достоевский, и от моего внимания не ускользнуло, что ко всем он обращался «товарищи», а к ней — «госпожа». Интересно, в чем грань? Лесневич — фарцовщица? Или из семьи фарцовщиков?
Тем временем упомянутую госпожу Лесневич не устроил ответ смотрящего рынка, и она, мотнув головой, капризно сказала:
— Я хочу, чтобы Саша сам сказал, вам-то откуда знать? Вы же ему в штаны не заглядывали, надеюсь, господин Халилов?
Красавица в соболиной шкуре закатила глаза и отвернулась. Ее подруга, госпожа Лесневич, лукаво посмотрела мне в глаза.
— Нормальное у меня будущее, госпожа Лесневич, — сказал я. — Светлое и счастливое, как у каждого советского гражданина.
Зазвенели, соприкасаясь, бокалы. Я поднял рюмку коньяку, чокнулся с теми, до кого дотянулся, сделал вид, что пью, и уселся за стол. Хотелось наброситься на поросенка и рвать его зубами, но я вел себя интеллигентно: чуть-чуть кальмаров, чуть-чуть салата, чуть-чуть мяса. И неторопливо жевать, улыбаясь направо и налево. Поглядывать на красавицу, которая слишком старательно на меня не смотрела.
Я хорошо чувствовал, что люди за этим столом здесь не ради боев и не ради меня. У краснощекого, очевидно, было какое-то дело к Достоевскому, с которым он пару раз пытался сунуться, но смотрящий рынка в свойственной ему манере переводил разговор на другую тему, взглядами намекая, что не стоит обсуждать это при посторонних. Тягостно вздыхая, краснощекий поглаживал грудастую по плечу.
Обо мне забыли, а я не спешил о себе напоминать, с наслаждением угощаясь деликатесами и набивая пустой желудок так, чтобы хватило восстановиться перед уже завтрашним турниром — ведь тридцатое наступило, и близилось утро.
Каждая выпитая гостями рюмка добавляла громкости голосам, и вскоре в зале поднялся гвалт, перекрывающий ненавязчивую музыку. Когда появилась спутница Достоевского, все ненадолго притихли. Теперь на ней было красное платье в обтяжку, она распустила черные волосы, рассыпавшиеся по плечам тяжелыми локонами, и в ее лице стали угадываться восточные черты.
Собравшиеся зааплодировали. Женщина царственной походкой направилась к синтезатору у стены, принялась его настраивать.