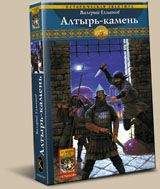Смутило же одного из них, настоятеля Илию, красивое убранство, которое висело на этой березе. Просто так деревья нарядными лентами никто перевязывать не станет, не для того за них куны на торжище плачены. Стало быть, не простая она, ох, не простая. По всему видать, живут поблизости от нее закостенелые язычники, кои по своему неразумию не истинному богу молятся, а пням да ручьям норовят поклониться.
Поначалу он повелел дерево не трогать, решив выждать, кто к ней молиться придет, да и схватить язычника с поличным. Однако сколько они ни ждали – все впустую. То ли идолопоклонники от старости вымерли, то ли истинную веру приняли.
А тут и Пасха подошла. За несколько дней до светлого двунадесятого праздника Илия, почесав в затылке, рассудил, что оставлять оную березу, дабы она омрачала пресветлый лик храма, негоже, и повелел Остии, самому молодому иноку, срубить поганое древо.
Вечером уже, узнав, что все сделано, он еще и пожурил паренька за то, что тот проторчал весь день близ нее, в наказание поставив его голыми коленками на горох. Пущай всенощную до утра служит во славу пресвятой девы Марии.
Остия оправдываться не стал, хотя мог. Ему изначально пришлось не по душе это повеление. Ноги не несли, топор из рук постоянно вываливался, а силы будто и вовсе в теле не было.
Кое-как он все же дошел до березки, но вместо того чтобы не мешкая приняться за дело, сел поблизости на пенек и впал в греховное раздумье: «И почто игумену понадобилось ее губить? Жертвы, говорит, ей приносят язычники. А какой и кому от того убыток? Эвон, краса какая. Сама в душу лезет».
Затем инок сердито отмахнулся от бесовского наваждения и тяжелым шагом двинулся к березе. Поплевав на руки, Остия замахнулся топором, с размаху всадил острое лезвие в ствол, а оттуда…
Инок даже глазам не поверил. Ну не бывает березового сока в таком обилии. А тот все тек без остановки, к тому ж странный какой-то. Обычно-то он прозрачный, как слеза у ребятенка, а этот чуть замутненный да…
Остия пригнулся, чтоб поближе глянуть, и тут же отшатнулся в страхе. Не муть то была – кровь алая. Перекреститься бы, да рука выше пояса не поднимается. Да еще в боку боль какая-то режущая появилась, будто не он рубил, а ему острым лезвием чуть пониже ребер саданули, причем со всего маху.
Потом, чуть переведя дыхание, еще раз пригляделся и… вздохнул с облегчением. Из ствола бежал чистый сок, а краснотой отдавал оттого, что заходящее солнышко бросало свои багровые блики прямо на деревце.
Правда, боль в боку все равно оставалась, но это ничего – пройдет. Сызнова взял Остия в руки топор, вновь рубанул да тут же и брякнулся на прошлогоднюю листву. То, что в его теле опять появилась точно такая же острая боль, – пустяк. Гораздо страшнее боли оказался горестный стон, который он услышал. Было от чего ужаснуться. И добро бы, если бы этот стон каким-нибудь злобно-скрипучим оказался, как нечисти и положено, а то чистый, тоскливый и… юный. Ну, ни дать ни взять, девку молодую топором огрел. И что делать, как быть?
Да если бы она просто простонала, а то ему еще и слова послышались. Будто вопрошала его березка:
– За что?
Руку к груди поднес, крест нащупал – вроде полегчало немного. Посидел недвижно, дожидаясь, пока нарастающее ожесточение и глухая злоба всю душу не заполонят, после чего вскочил на ноги и, не давая себе задуматься, принялся отчаянно рубить.
А в ушах-то стоны, а во всем теле – боль пронзительная, но Остия – шалишь – на бесовщину уже не поддавался – махал и махал топором без устали. Одной рукой обходиться ему было неловко, но и вторую от нагрудного креста отнять боязно. Тем не менее как-то исхитрился закончить свой труд.
Упав на колени, хотел было благодарственную молитву вознести за то, что подсобил ему господь в своей неизбывной милости, помог устоять и одолеть, да первым же словом и поперхнулся. А кого одолеть-то? Нечисть? Так разве может она плакать по-детски? Да и кровь у нее, как игумен Илия сказывал, зеленая да вонючая, аки тина болотная, а тут…
Так и простоял Остия до самых сумерек. Уже во тьме кромешной, не глядя – да и чего в потемках узришь, нащупал срубленное деревце и, бережно подняв на руки, понес его. Чудно, конечно. Ему бы ликовать оттого, что одолел столь великое искушение, а у Остии на душе саднило, словно он чего-то столь дорогого лишился, чего уже никогда в его жизни не будет.
«То искушение бесовское», – думал сердито и сам на себя злился за то, что не мог удержать слез.
Так, хмурый да зареванный, он и вернулся в монастырь, но и там искус не закончился. Все так же болело что-то в душе, а уж тоска такая, что хоть иди да в Оке топись, благо она почти под боком течет. Да тут еще и мысли крамольные в голову так и лезли все время, будто кто их со стороны ему нашептывал.
«Ну, язычники – так и что ж? Пускай себе. Ты им словом внушение сделай, а рубить-то зачем? Отец Илия сказывал, что все их идолы в кумирнях – суть дерево мертвое, и кланяются они ему по глупости своей и неразумию, так что срубить их – единая польза не только для самого христианина, но и для того же язычника, ибо тем самым ты показываешь ему, что он кланялся деревяшкам, в коих нет ни жизни, ни души. Так-то оно так, да ведь и иконы тоже на дереве писаны. Ежели тот же язычник порубит их топором да бросит в огонь – сгорят сразу, лишь пепел оставив. Но они же этого не делают, чужую веру уважают. Стало быть, что же они – лучше нас получаются? А мы тогда с ними почему так себя ведем?» – вопросил он, обращаясь к лику Николая угодника, сумрачно глядящему на него, и вновь в страхе зажмурил глаза. Лицо святого явственно кривилось в злой недоброй усмешке.
Остия открыл глаза, еще раз повнимательнее присмотрелся к образу святого и вновь утер пот со лба. Опять показалось. Избу-то рубили второпях, вот и недоглядели, плохо проконопатили щели. Сквозняк, что через них пробивался, беспрепятственно гулял по всему помещению и время от времени доставал до лампады, отчего ее огонек склонялся то в одну сторону, то в другую. Потому и освещал он иконку по-разному, а ему, Остии, невесть что блазнится.
Монах задышал спокойно, уверенно и даже произнес первые слова молитвы:
– Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя твое…
И снова замолчал, все тот же стон услыхав. Только на сей раз он был совсем негромким. Так не от боли плачут – с миром прощаются…
Когда монахи пришли звать его на заутреню, Остия в беспамятстве лежал, а в печке братья крестик его обугленный обнаружили, который так и не сгорел полностью.
«Не иначе как в безумие впадоша», – порешил отец Илия и повелел одному из монахов, знающему толк в травах и какие молитвы при этом следует читать, принять инока на излечение. Он и сам не забывал время от времени проведать болящего, прочесть жаркую молитву за его выздоровление да причастить святых тайн.