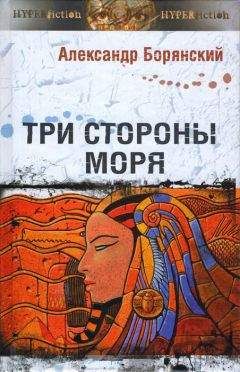Все поменялось. Да, он к этому стремился, и вот — все поменялось.
— Я решил не идти на хананеев сам, — сказал Мес-су. Он посмотрел прямо в глаза Ба, но быстро отвел взгляд. — С частью войска на них пойдет Изис. Это будет проверка. Так?
Изис вскочил и, почтительно поклонившись, ответил:
— Так!
Конечно, Ба никогда не вскакивал и не кланялся охраннику Рамзеса столь почтительно.
Он чувствовал тяжесть этого народа всем своим телом. Это был его народ, а он был им. Каждый сидел у него на плечах. Каждый давил на шею и требовал, чтобы все шло хорошо и лучше, лучше… Мес-Су ничего подобного не знал. Ба-Кхенну-ф начинал мучаться, просыпаясь.
«Землю хананеев вы должны забирать, селиться там и никогда не вступать с местными маленькими народцами в союзы, никогда не перенимать их обряды, ни в коем случае. Кто такие эти обреченные рядом с вами?» — он собирался так сказать, но, к счастью, промолчал. Он говорил это уже раз сто. Правильность его слов теперь могла только злить.
— Землю хананеев мы должны забрать… — величественным низким голосом произнес Мес-Су.
Одинаковые пробуждения тычком в плечо, одинаковые запахи… Вечный Мес-Су…
А ведь убьют. В конце всех концов — если не сам Мес-Су, то враги его, если не враги Мес-Су, то он сам… Некий Корей только сейчас догадался, что неприметный Ба влиял на военачальника…
Подкатила тамарисковая тошнота.
И сон прорвался в явь.
Ни одно исполнение, ни одно чудо не ведет к счастью. Все они приводят к пустоте. Это дребезжание мира, которое будет постоянно звенеть в ушах, если ты согласишься слушать его.
А счастье? Рамзес Великий был счастлив, когда мчался в атаку. Краткий миг — колесничная атака не длится долго. А когда был счастлив Эхнатон? Неужто всегда?
Всегда! И за то прокляли его земные правители, вынужденные таскать на плечах тяжесть народов.
Есть единственный способ: стать рабом сияющей высшей силы. Ничего не хотеть и ничего не делать для себя.
Вот его выбор, то главное желание: ничего не хотеть и ничего не делать.
Но ведь и действовать, и стремиться… Для кого же?
И он впервые увидел наяву эти спускающиеся лучи, чувствительные солнечные пальцы, несущие ему, Ба-Кхен-ну-фу, знак чистого действия — анкх, который люди предпочитают называть знаком долголетия, или здоровья, или богатства, или успеха… Знак действия, продиктованного небом.
* * *
— И кто такие эти обреченные, хананеи да иевусеи, рядом с народом единого? Ты согласен, Атон-Рон?
— Да, Мес-Су, повелитель.
— Хорошо. А ты?
— Да, Мес-Су, повелитель.
— А ты?
— А я не знаю, — ответил Ба. — Я помог тебе, как умел, Мес-Су, повелитель. Отпусти меня домой. Ты же помнишь, жители Кемт боятся умирать на чужбине.
— Ты дома, — возразил Мес-Су. — Ты сам говорил: мы все идем домой.
— Да, но Великий Дом отправил меня как посланника Кемт в страну Атона. Теперь, когда страна Атона существует — а она существует, раз существуешь ты и существует твое войско, — теперь я обязан вернуться. А потом вернуться уже к тебе и увидеть покоренный… нет, возвращенный по праву Ханаан.
Опасность быть убитым возросла.
— Иди, — сказал Мес-Су.
И все.
Опасность быть убитым возросла, но лучи спустились, окружили его, обняли, как никого другого из слуг Атона, и Ба-Кхенну-ф поверил, что с этого момента до прихода в Кемт ничего дурного с ним не случится.
И упала пелена с глаз, детали мира заискрились прелестью, шестисоттысячный народ-племя слез с шеи и протягивал руки, прощаясь. И сразу стало легко.
Ну что ж, прощайте, десяток блюд из тамариска. Так было надо, и я убедил Атон-Рона, что эта гадость послана небом. Он поверил.
Прощай, ящик с двумя уродцами, поименованными херу-кхимами бога Атона. Чистое золото! То самое, из которого Атон-Рон удумал отлить золотого быка, и почти учудил, но Мес-Су тогда еще слушался, и хеттский любимый зверь был переплавлен в нечто заведомо невообразимое — ведь нельзя изображать бога или служителей его вообразимо. На заре в ящик попадает первый луч света, и золотые друзья херу-кхимы светятся изнутри, оживают. Такую штуку изобрели жрецы Ра Херу-кхути, только у них вместо ящика целый затемненный храм, и статуи Херу-кхути огромны. Ящик Атона напоминает, правда, не столько обитель бога, сколько канопу, сосуд для хранения внутренностей усопшего, и херу-кхимы точно так же расположены друг напротив друга, но здесь их два, тогда как на канопе всегда четыре.
Прощай, Мес-Су, я ухожу, сознание твое отныне будет пребывать в неподвижности. В неподвижности сознания для некоторых тоже есть радость, мне не открытая.
Три года жить одинаково…
А еще предстоит научиться жить по-другому.
Фокус будет, если я приду в дельту, а Рамзес умер. Останется наведаться к нему мертвому…
Нет! Ба отогнал эту мысль. Мысль была старой и вползла в голову по привычке.
У него в запасе, за пазухой, вне мира — имеется свой повелитель. Это не Рамзес. И он не умеет умирать.
Раньше Ба прогонял страх из лихости. А теперь бояться действительно нечего. И теперь в этом — не бояться — нет никакой отваги.
Перед Рамзесом Вторым Великим стоял до крайности оборванный, измученный дальней пыльной дорогой человек. Тех, кто так выглядел, не то что во дворец, в Кемт не пускали. И этот человек сказал:
— О Великий Дом, жизнь-здоровье-сила, волею твоею слуги Атона готовы к вступлению в Ханаан.
Рамзес не сразу нашел, что ответить. Стража, за три года почти забывшая об охраннике по имени Мес-Су, ждала знака.
Оборванный человек добавил:
— Помешать им там не сможет уже никто.
* * *
Перед Рамзесом Вторым Великим стоял омытый в дворцовой купальне, натертый ароматическими маслами, одетый в чистое, белое, льняное, до предела выспавшийся, а в общем тот же человек.
— Выбирай себе награду, советник! — сказал Рамзес и, подумав, пояснил: — Любую.
— Мне нужна лучшая рабыня Кемт. Самая красивая. — Ба поднял палец. — И самая разумная.
— Всего лишь рабыня? — спросил Великий Дом. — Я могу дать тебе больше.
Рамзес говорил о своей дочери. И сдержанно улыбался. Но советник сказал:
— Нет. Мне нужно то, что нужно. Это не награда. Это решение второй задачи, которую ты передо мной поставил.
Все три девушки были великолепны. Хитрый старик щурился и спрашивал: «Куда же лучше?» Но выбрать Ба должен был одну. Одну, одну… Одна — это не три. И вопреки восхищению внизу живота он чувствовал: слишком просто.
Гибкая и опасная ливийка. Сирийка с изумительно светлой, безгрешной кожей. Длинная тонкая красавица, поправляющая льющиеся, как Хапи, от дельты до Элефантины волосы.
Великолепно!
Ба не знал, что выбирает погибель целого народа, свою потерянную любовь, символ красоты для всех времен, навсегда. Он не сразу заметил, что улыбается. Остановить дурацкую улыбку было не в его силах.
— Послушай, Нетчеф… — сказал Ба, заставляя себя отвернуться от них. — А кто у тебя еще есть?
— Куда же лучше? — повторил старик. — Лучше не бывает.
Лучше действительно трудно было представить. Но Ба хотел… Он не мог объяснить. Тайну пирамиды, тот камень из сокровищницы… Она должна быть как сумасшествие сфинкса.
— Двадцать дебенов, Нетчеф, — сказал он, — двадцать дебенов. Лучше не бывает, я знаю. Но ты попробуй угадать, что мне нужно.
Старик кивнул.
Она была фантастической. Ее не могло быть, но она существовала.
В изгибе ее шеи задолго до ее рождения пряталась тоска, о которой Ба только что догадался. Вспышка глаз обещала блаженство, которого можно не выдержать. Ее усмешка заключала в себе все аментеты, сфинкс зарылся в песок от стыда, а демон-змей Апеп в ожидании ее пропустил толпу осужденных. Напрасно! Он ее не дождется, потому что Ба отдаст ей свой участок на полях Налу.
Точнее… Ну что же тут скажешь точнее? Она выглядела странно — повторить сочетание богине Хатхур будет непросто. В ней отразилось движение времени, пойманное за хвост и подаренное… Кому? Пока что ему, советнику Великого Дома.
— Она дочь самой красивой рабыни и самого красивого раба. Я свел их семнадцать лет назад. Потом я воспитал ее. Я ждал такого, как ты.
— Для чего, Нетчеф?
— Для того, чтобы хоть когда-нибудь, хоть под конец жизни увидеть своими глазами двести тридцать шесть дебенов серебра сразу.
Ба хмыкнул. Надолго воцарилось молчание.
— А те три красавицы, — разорвал тишину старик, — помогут мне его унести.
Ба проснулся с ощущением счастья.
Он лежал, уткнувшись носом в ее плечо; он прикоснулся губами, потом отстранился, посмотрел… Ему хотелось и не хотелось просыпаться; хотелось, потому что, возвращаясь в реальность, он возвращался к ней; и не хотелось, потому что во сне он тоже видел ее, во сне продолжался вчерашний лучший на свете вечер, переходящий в лучшую из всех пережитых ночей.