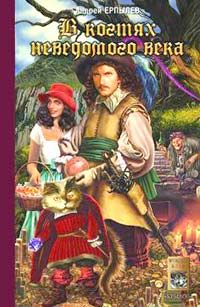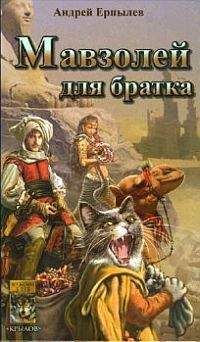– Не прикажете ли разогнать? – Один из не в меру услужливых капитанов, сорвав с головы остроконечную каску, похожую на половинку гигантского тыквенного семечка с полями, припал на одно колено перед монархом, скучающим на поставленном на попа полковом барабане в позе Наполеона перед отречением.
– Оставьте, де Голль… – бросил король, не меняя позы. – Не терпится в маршалы? Зачем лишать наших подданных удовольствия лицезреть своего повелителя?.. Распорядитесь лучше, чтобы соорудили что-нибудь вроде стола.
По всему лагерю спонтанно зажигались костры, потянуло чем-то съестным, откуда-то уже слышалась протяжная песня… По всему чувствовалось, что штурм откладывается на неопределенное время.
– Не пора ли нам, мой друг, подумать о ночлеге? – поинтересовался у Жоры Леплайсан, уже что-то с аппетитом жующий: к вечеру его состояние несколько выровнялось. – А заодно уж и об ужине… Король сегодня не в настроении воевать. Я тут, кстати…
Досказать ему не пришлось.
Где-то за спинами толпы бодро и немелодично взревела труба, а зрители принялись неохотно расступаться в стороны, энергично расталкиваемые кем-то невидимым, но агрессивно размахивающим белым флагом на длинном древке, к тому же горластым и виртуозно нецензурным.
Местный гений матерщины, слегка адаптированной для применения к ушам французского населения, оказался невысоким плотным крепышом в пышном мундире и умопомрачительной по высоте каске, к тому же увенчанной монументальным плюмажем из страусовых перьев. Сколько хвостов африканских голенастых птичек пришлось выщипать, чтобы украсить головной убор парламентера, так и осталось неизвестным, но вздымался он на поистине баскетбольную высоту, мужественности его обладателю добавляя немного, но делая его разительно похожим на старомодный волан для бадминтона.
– Странно, – заметил Леплайсан самым обиженным тоном, отбрасывая огрызок яблока. – А мне почему-то казалось, что шут здесь всего один – я…
* * *
В город короля все же не пустили. Две королевы – старая и молодая – стояли на площадке башни, возвышающейся, словно балкон, над монархом с его небольшой свитой, в которую каким-то непонятным образом затесались наш герой и, конечно же, шут – куда без него?
– Ну что, нагулялся, блудня бородатая? – сварливым тоном осведомилась королева-мать, сейчас больше всего похожая на обычную тещу, встречающую загулявшего зятя: только скалки в руке не хватало. – Да не один ведь приперся – с дружками! И какую толпу приволок с собой!.. И где только берет собутыльников, а, дочка?..
Король слушал, не перебивая, понурив голову, будто и впрямь непутевый зятек-пропойца.
– Мама!.. – попыталась вступиться за благоверного Маргарита, действительно весьма симпатичная, хотя и полноватая, на взгляд Жоры, шатенка в глухом платье с необъятными фижмами и с маленькой бриллиантовой короной на голове, но мамаша тут же ее одернула.
– Что мама? Что мама?! – напустилась Екатерина Медичи на свою дочь. – Распустила, понимаешь, мужа! Шляется незнамо где целыми неделями! Знала бы, что так получится, – выдала бы тебя за польского короля Стефана! Тот хоть делом занят – воюет опять с кем-то!.. Или за того же Карла Савойского…
– Мама!.. – снова воскликнула со слезами на глазах молодая королева.
– А ты чего стоишь, орясина? – Внимание старухи опять переместилось на Генриха, готового провалиться сквозь землю. – На… ся? Не подцепил хоть чего? Вот, дочка, дождешься: наградит он тебя чем-нибудь, ох наградит! – Вектор внимания вдовствующей королевы снова сместился. – Набегаешься по врачам с таким вот муженьком!.. Так и знай, мой Амбруаз вам с Генрихом не лекарь!
– Мама!.. – это уже подал голос король. – Я…
Георгий возблагодарил про себя небеса, что, слава Всевышнему, до сих пор не женат, а следовательно, не имеет такого практически неизменного дополнения к прелестям брака, как любимая теща.
– «Я, я!» – избоченясь, передразнила Генриха королева-мать, не удержавшись и продолжив вполне созвучно.
Всем присутствующим, не исключая монарха, от стыда очень хотелось оказаться где-нибудь далеко, причем, на манер гребцов знаменитого Одиссея, с ушами, залитыми воском. Королева, однако, истолковала смущение своей мишени по-своему.
– Что, стыдно? – несколько смягчилась она, грозя пальцем королю и обступившим его соратникам, словно компании мальчишек, только что разбившей футбольным мячом соседское окно. – Стыд глаза ест?
И вдруг рявкнула по-фельдфебельски, грозя пухлым кулачком:
– Чего встал? Марш во дворец, разгильдяй! Дома поговорим!..
* * *
Вы думаете, что король отверг предложение и, гордо подняв голову, удалился в свой лагерь, чтобы спозаранку начать штурм неласковой к нему столицы или хотя бы планомерную его осаду? Не угадали, дорогие…
Король с изрядно поредевшей свитой отправился в Лувр, конечно же, не любоваться Джокондой, а выслушивать нравоучения дражайшей тещи (хотелось верить, что по причине преклонного возраста последней до рукоприкладства не дойдет, да а король все же помазанник Божий, как ни крути) а потом – и под сдобный бочок изволновавшейся законной супруги, армия, казавшаяся ничуть не удрученной упущенной возможностью сложить голову во славу короля, – по казармам, а Леплайсан с Георгием – в гостиницу.
Почему не к Леплайсану домой? Да по той простой причине, что своего дома у королевского шута не было. Не удосужился он к сорока годам, прожитым большей частью, смею вас заверить, вовсе не в тепле и уюте, обзавестись своим углом, вот и все. Нет, было, конечно, родовое гнездо, этакий суровый замок с зубчатыми стенами и угрюмой башней-донжоном в центре, где-нибудь в Лангедоке или, наоборот, в Нормандии, в Гаскони или Пикардии, но в Париже Леплайсан ночевал либо в Лувре, на ведомственной, так сказать, жилплощади своего сюзерена и работодателя, либо у одной из своих многочисленных подружек, которых он, как истинный демократ в душе, имел во всех слоях парижского общества, либо в какой-нибудь гостинице, полюбившейся ему пикантной кухней, покладистой хозяйкой или, напротив, добродушным и не жадным хозяином. Последние встречались реже всего, в основном по причине редкой кредитоспособности шута.
Нет, кредитоспособность Леплайсана вовсе не была какой-то уж очень особенной, он, увы, просто редко был кредитоспособен вообще, а зачастую просто нищ, как церковная мышь… А что делать, если король, если и бывает щедр, и временами даже до мотовства, чаще забывает платить жалованье своему любимцу, а шут, хотя и небогат, имеет собственную гордость, чтобы просить…
Все это Жора узнал, пока они с новым другом, плечо к плечу, пробирались в почти абсолютной темноте – до наружного освещения, тем более до неоновых реклам, средневековому Парижу, где и на свечах-то экономили, освещая дома вонючими масляными плошками, было как до Китая известным способом, – узкими, как щели, извилистыми улочками в известном одному шуту направлении. О, как понимал сейчас нищий инженер своего благородного товарища! Сколько он сам мог бы рассказать, если бы не боялся показаться в глазах Леплайсана заговаривающимся идиотом или очередной жертвой делириум тременс[23]. Кстати, зеленый чертик последовал за своим кумиром, не размениваясь на каких-то рядовых выпивох вроде Фридриха или Гайка, и теперь настороженно посверкивал светящимися глазенками откуда-то сверху, должно быть, с шляпы шута.
Пару-тройку раз дорогу всадникам заступали какие-то подозрительные темные личности, которые тут же испарялись, стоило Леплайсану, не мудрствуя лукаво, на четверть извлечь из ножен клинок, мерцающий неземным светом при блеске луны, достигающем дна улиц. Да-а, суровое было время, если одной только демонстрации острой железяки было достаточно для свободного проезда. Хотя не везде, ибо на любой лом, согласно третьему закону Ньютона, известного нам из школьного курса физики, чаще всего есть противодействие в виде другого лома…
Путешествие по закоулкам Парижа завершилось за полночь. Гостиница была маленькой, изрядно пропахшей чесноком, кошками и отходами человеческой жизнедеятельности, причем по неласковому приему, оказанному друзьям, вряд ли можно было заключить, что Леплайсана здесь вообще ждали.
Вместо ужина пришлось ограничиться средних размеров кувшином вина и чем-то, что хозяин, пузатый и лысый, как колено, субъект с таким огромным носом, что Сен-Симон или тот же Сирано де Бержерак[24] умерли бы от зависти, чересчур оптимистично, на взгляд Жоры, называл «печеньем». Отбойным молотком или гидравлическим прессом дробить бы это печенье, а не человеческими зубами! Притом то ли кулинар, выпекавший его, был ярым приверженцем продуктов с пониженным содержанием сахара, то ли рецепт изначально был таким «аскетичным», но по вкусу оно больше всего напоминало гипсокартон, зажаренный на машинном масле. Вино было, конечно, поприличнее надолго запомнившегося «Шато тальмон», но до «Агдама», «Анапы» или хотя бы светлой памяти узбекского портвейна «Гюнашли»[25] ему было так же далеко, как местной карете до гоночного «альфа-ромео».