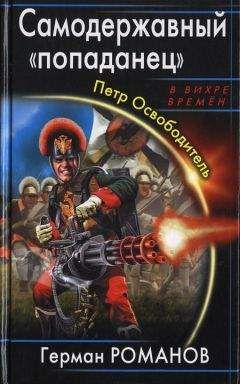— В Петергофе то было, когда баталию с мятежной гвардией учинили, — обстоятельно ответил Иван Тихомиров и усмехнулся, вспоминая, какая радость царила тогда в его сердце. — Мне батюшка наш знак святого Александра пожаловал да чин сержантский. А потом еще медаль серебряную, а не бронзовую, как другим солдатикам. За преданность!
Старик прервал речь и старательно прикурил трубку от фитиля. Пару раз пыхнул дымком, раскуривая.
— А что ж ты на пенсион не ушел-то?! Ведь стариков в солдатах сейчас, почитай, и нет! В полку только ты такой один…
— А ты меня стариком не считай. — Солдат как бы лениво, но настолько быстро врезал рекруту подзатыльник, что тот не успел отшатнуться. И, получив внушение от старослужащего, почтительно закивал — мол, понял я вашу науку, батюшка, и благодарен за нее.
— Так-то, — вымолвил Тихомиров, а в его стариковских глазах мелькнул отческий проблеск. Любил он парня, услужливый и добрый, не солдатом бы ему быть. Но руки золотые, вот и определили его в полковую мастерскую, где работы всегда много — и новые нарезные ружья чинить, и к старым фузеям «крутящиеся» пули отливать, и сапоги починять, да и других дел невпроворот, вечно заняты.
И правильно: служивые без дела — что тати ночные, только хлопоты причиняют. Нет, у их полковника не забалуешься, его высокоблагородие еще в войне с пруссаками свой норов показал.
— Скучно на пенсионе. Да и ехать некуда — в родных краях меня подзабыли, ни двора ни кола. Вот и упросил Петра Федоровича на службе оставить, пригожусь, мол, еще. Он меня и повелел обратно в родной полк принять. Я как в семью вернулся, все кругом свои.
— И сапоги мы носим отличные — ни у кого в армии таких нет!
— Это государева нам честь, за Кунендорфскую баталию. Апшеронцы тогда все атаки пруссаков отразили, больше половины нашего полка полегло. Вот Петр Федорович и повелел — раз по колено в крови на поле стояли, то и сапоги такие же носить будете. И хоть в гвардию не причислил, но в одной бригаде с измайловцами состоять приказал.
— А лейб-гвардейцами мы станем? — с надеждой спросил солдатик.
— Ежели в боях с турками себя покажем, то почему бы и нет! А османы злые — я с ними тридцать пять лет тому назад первый раз воевал. Таких в полку только двое нас и осталось — полковник и я, грешный!
— Они-то, может, и злые, но и наша рать не малая…
— Неслух ты, Митька. Не в рати дело, а в том, как солдаты обучены и вооружены. А фузеи у нас намного добрее! А потому хватит болтать, замок давай чини!
Юконский острог
— Колоши!
Выкрик Кузьмы вывел Алехана из секундной растерянности, слишком неожиданно совершено было нападение. И стрелу он опознал сразу — тлинкитская, или колошская, по названию индейского племени.
Возле головы свистнуло, и Орлов тут же отпрыгнул за торчащий из-под мха огромный валун, прижался спиной к высокому скальнику. Одновременно гвардеец сдернул с плеча штуцер, выискивая глазами цель.
— В-ж-и-к!
В воздухе пропели свою смертоносную песнь еще несколько стрел, но он уже не обращал на них внимания, как-то попривык за эти годы…
— А-а!
Моряк дико заорал от боли и схватился за пронзенное стрелой бедро. И тут Алехан увидел стрелков — три лучника стояли на той стороне озера и снова натягивали тетивы.
— За крест прячься, Антошка! — крикнул воющему офицеру Алехан, вскинул штуцер, поймав в прорезь прицела лучника, и плавно потянул за спусковой крючок.
— Б-у-х! Б-у-х! Б-у-х!
Приклад трижды толкнул плечо — отдача у винтовки чувствительная, патрон мощный. Клуб белого дыма на секунду скрыл от него лучников, но Алехан знал, что он не промахнулся, стрелял ведь отменно.
За спиной бухнул выстрел Кузьмы, затем еще один. Вот только в кого наметился казак, он не увидел, отвлекшись снова на молодого моряка.
— Твою мать!!!
Мичман лежал у самого креста, безвольно раскинув руки в стороны. А из его тела торчало уже добрых полдюжины стрел со знакомым черным опереньем. Убит, бедолага, — полмира прошел, чтоб на краю земли свою погибель найти.
— Да сколько же вас здесь?! — вскрик был непроизвольным.
Все три индейца на том берегу лежали уже на камнях, окропив их своей кровью и выронив луки. Он не промахнулся, но по кому стрелял Кузьма? И кто тогда так нашпиговал мичмана?
Холодея спиной, Алексей стал поворачиваться, понимая, что враги напали на них с двух сторон.
— Сзади! — отчаянный выкрик Кузьмы оглушил Алехана, и тут же раздалось страшное в своей свирепости визжание индейцев, которое он слышал уже много раз. С такими криками туземцы всегда идут в атаку, стремясь сломить врага и себя подбодрить.
Орлов обернулся — так и есть, по склону к ним устремились с полдюжины туземцев, размахивая топорами и дубинками. Еще двое стояли чуть повыше, с луками, и совершенно спокойно доставали по стреле.
— Б-у-х!
Один из лучников сложился, машинально схватившись за живот. Затем рухнул со склона. Тело покатилось по камням и с высоты двух саженей с плеском вошло в прозрачную воду.
Казак снова не оплошал — стрелков нужно бить в первую очередь. А потому Орлов тщательно прицелился и опередил лучника на мгновение. Получив две пули в грудь, тот успел все же отпустить натянутую тетиву, только стрела ушла в небо. А сам индеец мертвым кулем покатился по камням и рухнул в озеро вслед за своим незадачливым предшественником.
— Твою мать! Ох, ты, неладная!!!
Казак, громко матерясь, дергал барабан штуцера. «Так и есть — сломалась пружина, и теперь его не провернуть!» — успел подумать гвардеец.
Алехан выстрелил навскидку — подбежавшего к казаку индейца с размалеванным красными и черными линиями лицом свинец швырнул на землю, но остальные пятеро аборигенов не остановились, продолжая размахивать оружием, они уже набегали на Меринова.
Тот отбросил заевшую винтовку, стремительно выхватил из ножен кривую саблю. Серебристый клинок хищно очертил круги над головой станичника и рванулся вперед.
Курок щелкнул, но выстрела не последовало — Алексей мгновенно понял, что извел все шесть патронов. Времени на перезарядку не было, но рядом с убитым моряком лежала винтовка, которую тот только успел снять с плеча, тут же сомлев от смертельных ран.
Орлов в три прыжка оказался рядом с убитым, схватил штуцер, взвел курок. И вовремя — трое индейцев набросились на казака, а двое устремились к нему, дико визжа.
Целиться не было нужды — с двух саженей промахнуться невозможно. Лишь бы Антошка покойный патроны в каморы вставил, а не на поясе держал. Иначе и его смерть сегодня придет! На мгновение взмолившись, Орлов потянул пальцем за спуск…
Гречиничи
— Ваше величество, извольте подписать. — Кабинет-секретарь Волков, не чинясь, попросту выложил на раскладной столик стопочку листов бумаги, требующих государева росчерка.
За эти восемь лет они сработались на все сто, и только сейчас Петр стал понимать, насколько важна работа секретаря, все помнящего, когда он сам подзабыл, держащего руку на пульсе всех дел.
А кое-где и его заменяющего, когда требовалось нерадивым или бездельникам «фитили» вставить. То Дмитрий Васильевич сам делал, инициативу проявляя.
С последней было туго — сам принцип самодержавия на корню мотыгой глушил любое проявление самостоятельности что в армии, что в управлении государством. Пришлось ему пойти даже на экстраординарные меры — приказать вначале делать, а потом лишь докладывать, а не наоборот, как было принято. За исключением дел особой государственной важности, перечень которых занимал всего один листок.
Но приказ приказом, а наработанная годами мудрость чиновничья гласила — под лежачий камень вода не течет. Оттого в том же Сенате скапливались груды дел, требующих разрешения десятилетиями. Правда, мелкие служащие, чернильные души, подьячие — мать их — нашли способ борьбы с бумажными завалами. Нет, поджоги не устраивали, сыр, паскуды, разбрасывали везде в бумагах, а крысы махом проводили «чистку». И все, крайнего не найдешь, не котов же полосатых под суд отдавать?!
Два года провел Петр в безуспешных баталиях с чиновничеством — ни грозные окрики, ни показательные казни к улучшению не привели. Чудище оказалось обло, озорно, да еще и лаяло!
Пришлось делать поправки — увольнять всех бездельников, что сами решать боялись и сроки тянули. Пусть на первых порах воротили такое, что волосы дыбом вставали, — но ведь начали делать, тем паче за первые ошибки взыскания были или слабые, или совсем отсутствовали. Инициативу проявлять даже стали, поменяв полностью полярность старого принципа — за отсутствие оной у подчиненных начальство немедленно подлежало переводу на их же уровень.
Зато сразу другой русский принцип, четырех «Н», попер, будто дрожжи в дерьмо кинули, — награждение непричастных, наказание невиновных. Приписки чужих заслуг пошли валом. Но тут дарованный судьбой «полиграф» сильно выручил — при двадцатичасовой работе в день Петр лично многих на чистую воду вывел. Унялись, поганцы, и пошли дела потихоньку, сдвинулись с мертвой точки.