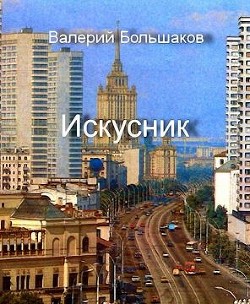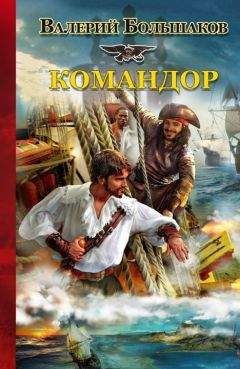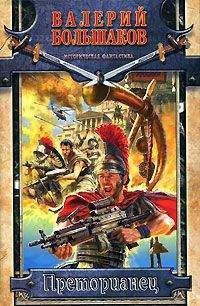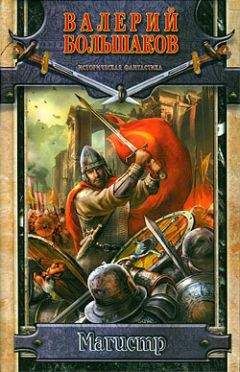– А как же! – усмехнулся Врублевский, оборачиваясь.
– В актеры метишь? – прищурился Николай Викторович. – Или в операторы?
– В помощники режиссера, – спокойно ответил Виталий.
Председатель Президиума Верховного Совета рывком встал, и медленно прошел к окну. Оглядев, будто впервые, пустынную Ивановскую площадь, он протянул Врублевскому руку.
– Утверждаю, помреж!
Виталий крепко пожал мягкую, вялую ладошку Подгорного, и будто подгадал – за окном ударили куранты, отбивая полдень.
Арбат, 15 апреля 1973 года. После трех
– Все, можно смотреть, – я отошел от мольберта, обтирая руки ветошью. Мавр сделал свое дело.
Жанна Францевна продефилировала и обогнула готовый портрет.
– Это я? – произнесла она после долгого молчания.
– Это вы, – бегло улыбнулся я. Смотреть на картину глазами ее героини, угадывая мысли и чувства – занятие увлекательное и захватывающее.
– Хм… Я мнила себя сильной… Гляньте! Она слабая… Какая-то нежная… В ее-то годы!
– Ваш возраст, Жанна Францевна, называют элегантным, вот только редко кому дано сберечь эту элегантность, – мой голос зазвучал мягче, почти доходя до бархатных тонов. – Вам это удалось. А что до силы… Не стоит мериться с мужчинами, мы – разные.
Я не стал выглаживать лицо на портрете, замазывать морщины и прочие шрамы времени. Просто уловил скрытое обаяние и ту самую опасную женскую силу – эти врожденные или благоприобретенные свойства воспринимались глазом в первую очередь, отвлекая внимание от возрастных примет. Грубоватое присловье «Сзади пионерка, спереди пенсионерка» полностью относилось к Минц. Лицо ее увяло, но в движениях ладного стана все еще сквозила музыкальность и утомленная грация.
– Спасибо, Антон, – губ критикессы коснулась тень улыбки. – Отвыкла быть женщиной. Спасибо, напомнили. Да! – встрепенулась она, словно застеснявшись откровенности. – Работаете на заводе? Художником-оформителем? Тратите время!
– Да я пробовал устроиться в комбинат живописного искусства – бесполезно, – моя рука сама потянулась в затылке почесать. – Я же не член Союза художников! Главное, чтобы работать в комбинате графики, необязательно состоять, но вот КЖИ… Да вы и сами в курсе! А чтобы приняли в МОСХ, надо выставляться и выставляться. Так что… Работаю!
– Правильно делаете! – отрывисто бросила Минц. – А Выставком… – на ее тонких губах заплясала лукавая усмешечка. – Есть у меня знакомцы в комитете!
* * *
В мастерской я провозился дотемна, наводя орднунг. Потихоньку-помаленьку наживалось художническое добро. Вон, на низком подоконнике «нормального» окна скатан тот самый рулон холста «Караваджо». Спасибо «крестному отцу Пахому», было чем заплатить барыге. А вот великолепные наборы красок «Виндзор энд Ньютон». А кисточки – одна другой краше! Колонковые, беличьи, козьи, из ворса мангуста и медведя, из барсучьего волоса, лайнеры из соболя и флейцы из щетины!
Говорят, ковбои на Диком Западе первым делом заботились о своих «кольтах». Вот и я теперь «вооружен и очень опасен» – для всей живой и преходящей красоты, которую еще не перенесли на плоское полотно.
Одевшись, я вышел за дверь и закрыл ее на вычурный ключ с затейливой узорной бородкой. Старинный замок успокоительно щелкнул: но пасаран!
Расслабленный, освобожденный от забот и хлопот, я спускался по «своей» узкой лестнице, откованной из черного, потертого железа, когда вдруг увидел девушку. Высокая и стройная, в накинутой на плечи дубленке, она поднималась на четвертый этаж, глядя под ноги. Грива каштановых волос нагоняла тень на склоненное лицо, но вот незнакомка вздернула голову.
– Илана? – охнул я, чувствуя, как явь резво замещается сновидением. Этот чарующий разрез синих глаз, союзные бровки вразлет, пухлые губы, словно надутые в милом капризе…
Девушка замерла, глядя на меня с настороженным недоумением.
– Вообще-то, я – Лида, – опасливо сказала она, тая смятение во взгляде.
– Антон, – ляпнул я.
Лида засмеялась, будто скидывая напряг. В это вялотекущее мгновение она настолько походила на Илану, что душа будто ледком подернулась. Я не расчислял, чудесный ли случай выпал мне или драгоценное совпадение, а просто любовался девушкой, впитывая зрением великолепные красы, отточенные Творцом или Природой.
Беспардонный лязг защелки оборвал сладкий морок – за дверь выглянул раскрасневшийся Юрий Михайлович, оживленный и не унявший праздничного задора.
– Лидочка! – радостно воскликнул он. – Потеряшечка моя!
– Грушин не придет, – мимолетно улыбнулась девушка. – Он весь в мрачных раздумьях.
– Да и ладно, нам больше достанется! О, Антоша! – приметил Кербель слона. – Знакомься, моя внучечка!
– Да мы уже, – покрутила кистью девушка, шагая в прихожую.
– Заходи, Антон! – лучился дед. – Давай, давай!
– Да мне… – промямлил я. – Как-то…
– Заходи, заходи! – старый художник вцепился в меня и затащил на свою жилплощадь. Я не оказал сопротивления, будучи растревожен неожиданной встречей с «девочкой из телефона».
– Гости у меня редко бывают, – не отпускал Юрий Михайлович. – Сам понимаешь, угостить нечем! Хозяйки нет, а я только яичницу умею. Зато найдется, чего выпить! Посидим, погутарим…
В гостиной я застал всего двоих – добродушного, румяного толстяка Жагрина, ваятеля, прописанного этажом ниже, и жеманную, слегка мужиковатую особу бальзаковского возраста, проигравшую битву со временем, но еще не сдавшуюся. Кричаще-яркая помада, длинные волосы, крашенные в радикальную черноту, батник той же кромешной расцветки и алые брюки лишь подчеркивали прожитые годы, зато подходили к имени – особу звали Ада. Занимая незаметную должность, Ада вращалась где-то в высших сферах – то ли на Старой площади, то ли на Смоленской.
– Антон! – тонко вскричал скульптор. – Как жизнь молодая?
– Проходит, Иван Иваныч, – улыбнулся я.
– Непорядок! – Жагрин перевалился через пухлый подлокотник, и спросил придушенно: – Познакомить с хорошей дивчиной?
Я фыркнул, Ада поджала губы, а Кербель всплеснул руками:
– Ваня в своем репертуаре! Антоша, Адочка, не обращайте внимания на этого престарелого сатира!
Скульптор кис от смеха и вяло отмахивался.
– А мы с ним похожи, – низковатым голосом вывела инфернальная особа, закуривая длинную и тонкую сигаретку «Пэлл-Мэлл». – Оба бесимся, не желая признавать очевидное. Врем себе, будто лето продолжается, хотя уже и дожди прошли, и листва долой… Снег скоро, – ее лицо искривилось на миг, выдавая морщинки. – Старость… Мерзость…
– Ах, Адочка… – затряс головой хозяин квартиры. – Сам такой! Всё, знаете, подсчитываю, сколько еще протяну. Десять лет? А вдруг и двадцать не предел? Доживают же люди!
– Какое гнусное слово – дожитие… – Ада нервно втянула дым и резко выдохнула его.
– Закрыли тему! – решительно заявила Лида, появляясь с подносом в руках. – Кыш, негатив!
Она выкладывала на стол нарезку, хлебцы, еще что-то, такое же немудреное, а я пристально вглядывался в черты милого лица, в дразнящие изгибы фигуры, пытаясь понять – и принять.
Изящное платье до середины бедра молодило Лиду еще больше – она походила на старшеклассницу-выпускницу. И блеском глаз, и гладкостью щек, и узостью талии. Девушка двигалась точно и стремительно. Взмах руки – поворот головы – улыбка – взгляд – шаг – наклон… И всё сливалось в очень естественный быстрый танец, завораживавший неслышным напевом.
– А Эдика когда ждать? – осведомился Кербель, неуклюже пытаясь помочь. – Я его с самой свадьбы не видел, год уже, или больше…
– И не увидишь! – сообщила Лида с коротким смешком. – Ты был прав, дед, мы с ним не пара.
– Разве? – промямлил старый художник. – Я, вроде, ничего такого не говорил…
– Ну, значит, думал! – отмахнулась девушка. – Слишком разные мы. Мне хочется к морю, в горы, да просто прогуляться, с друзьями посидеть, а Эдька с дивана бы не слезал! Придет на работу – плюх в кресло. Возвращается домой – плюх на диван! И за газету – нырь! Всё в своей «реал политик» ковыряется. Дед! – она мимолетно прижалась к Кербелю. – Ты только не переживай, ладно? Детей у нас, слава богу, нет, а любви и не было. Вон, я еще когда Адочке говорила, что не замуж хочу, а за границу! Всё, хватит с меня, насмотрелась на загнивающий империализм… Так, дед, наливай!