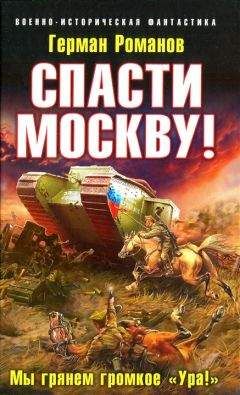— Хотите выпить, мой майор, — Григулеску вытянул из-за спины кожаный бурдюк, в котором громко булькнуло вино, столь желанное в эту моросящую вечернюю мерзость.
«Больше половины», — машинально отметил капитан, развязывая горловину. Хоть повозка, на которой везли его и француза, была снабжена рессорами, трясло неимоверно, да еще эта грязь, налипавшая на колеса и доведшая лошадей до изнеможения.
Офицерам и раненым было хорошо, они хоть так скверно, но ехали. А вот солдатам охраны приходилось плохо, они кое-как продвигались вперед, с трудом выдирая сапоги из раскисшей под дождем вязкой и маслянистой глины.
Так они и брели, в намокших шинелях, в надвинутых до шеи шапках, да еще навалившись всем телом, толкали телеги, на которых стонали их покалеченные собратья.
— У вас нет стакана? — ужаснулся француз.
— Так ведь трясет так, что любое стекло треснет, — пояснил Григулеску, протянув бурдюк.
Жорж его взял двумя руками и осторожно припал к горлышку. Отпил немного, затем еще глотнул, цокнул языком и скривил лицо в брезгливой гримасе.
— У нас такое только клошары пьют, а здесь офицеры!
«Удивительно бестактные люди, которых почему-то самыми вежливыми считают», — подумал капитан, но промолчал. Взял бурдюк у француза обратно и с видимым удовольствием отпил терпкого красного вина, весьма полезного при потере крови.
Ругаться с союзником он не желал, но тот сам нарвался на ссору, вновь проявив, но уже не бестактность, а откровенное хамство, недостойное офицера.
— Этот кожаный мешок со скверным вином яркий пример вашего бескультурья. Потому ваши солдаты трусливы, они впадают в ужас при виде диких казаков и кавказских туземцев. Солдаты, которые бегут от всякого сброда, не могут считаться культурными и храбрыми воинами…
— Ваш Наполеон когда-то сам сходил на Москву, — Григулеску не выдержал и вспылил. — Но оттуда ушел, как говорят русские, «несолоно нахлебавши», бежавши перед этими самыми казаками. И погубил всю «Великую армию», от которой остались одни жалкие ошметки. Сами с ними воюйте, если хотите!
— Не вам нас учить! — недовольно буркнул майор и отвернулся, демонстративно накрыв голову полой шинели. А Григулеску стал рассматривать захолустное сельцо, в которое втягивалась транспортная колонна.
На ночлег в этих грязных и вонючих хатах, с прогнившими соломенными крышами, полных тараканов и зловредных клопов, останавливаться не собирались.
До полуночи было еще полчаса, как раз, чтобы добраться до более приличного ночлега в предместье богатого торгового города, что находился почти рядом с этим пристанищем бессарабских нищенствующих хлеборобов. Потому капитан тоже накрылся шинелью и попытался уснуть, мечтая о том, как прикажет себе зажарить целую курицу.
Однако накатившая было дремота слетела с него мгновенно — со всех сторон грянули выстрелы и раздались крики смертельно напуганных солдат, кричавших лишь одно слово, но такое, что бросило сразу в липкий ужас.
— Казаки!!!
Кругобайкальская железная дорога
(23 декабря 1997 года)
— И-е! Сан байну, однахо!
Трескучий голос раздался откуда-то извне черепной коробки.
Константин открыл глаза: перед ним в отблесках костра сидел Цыренджап, тот самый бурят, который подрядился лечить его истерзанное тело тогда, в далеком конце далекого двадцатого века.
— Ты откуда здесь? — еле прохрипел Константин.
Мысли с трудом ворочались в вязком содержимом головы. Казалось, их хаотичное броуновское движение не поддавалось никаким законам логики, однако…
— Тв-в-вою мать…
Константин попытался с трудом приподняться на локтях, но тело осталось непослушным, и он с трудом простонал:
— Сколько я был в отключке?
— А сам как думаешь?
Бурят прищурился, от чего его и без того узкие глаза превратились совсем в щелочки, и засмеялся, только вот его смех походил скорее на булькающее карканье.
— Нечем мне думать! Голова не моя… — вяло огрызнулся Константин. — Ты можешь нормально ответить, а не как еврей — вопросом на вопрос?
— О-о-о! — Цыренджап пустил густую струю табачного дыма, любуясь кольцами. — Для кого-то жизнь — это мгновение, а для кого-то… — Он пустил еще одно кольцо и принялся внимательно наблюдать, как оно начало таять, поднимаясь вверх.
— Чего замолчал? — Константин, все-таки собравшись с силами, смог полусидя пристроиться спиной к скальной стене, устремившейся в темное ночное небо и терявшейся в вышине за границей отблесков костра.
— Ай-яй-яй! Я скажи… Я сделай… — Цыренджап, словно китайский болванчик, закачал из стороны в сторону головой. — А своя голова зачем дана?
Он снял донельзя затасканную цигейковую солдатскую шапку и демонстративно постучал по пепельно-серой, словно собачьего окраса соль с перцем, седой голове:
— Головой думать надо! Шибко думать, чтобы потом как шатун не бродить! И-е! — Он махнул рукой. — Зачем тебе мои слова? На коне едешь и коня ищешь!
— Погоди, погоди… — Константин нахмурился. — Скажи мне по-человечески: ничего не было?
— Что было, то было! Что будет, то еще не предопределено! — бурят пожал плечами. — А может быть, предопределено, но не нам об этом знать!
— Послушай! — Константин начал медленно закипать от этой всей бредовщины. — Я сейчас встану и шею тебе сверну, Заратустра чертов! Хватит мне мозги вымораживать!
Цыренджап засопел, поежился, глубже кутаясь в свой безразмерный бушлат. Константин тоже откинулся головой на каменную твердь: вспышка гнева отняла последние силы.
Какое-то время молчали: бурят ковырял носком кирзового сапога грязный снег, а Константин, полуприкрыв глаза, сквозь ресницы наблюдал за догорающим костром.
Удивительно, но холода он не чувствовал. Тело не ныло, не болело, не саднило — ничего, словно разум существовал отдельно от бренной плоти.
«Значит, ничего не было!»
Тягостная мысль, будто зажеванное на видеокассете место, подобно дергающейся на экране картинке, монотонно билась в голове.
«…А для кого-то — мгновение — жизнь… За одно мгновение я смог прожить немного жизни другого человека…»
Медленно, словно через вату, до него донеслось мычание: Цыренджап, как ни в чем не бывало, прочищал свою потемневшую от времени и отполированную, несомненно, руками не одного поколения курильщиков трубку и что-то еле уловимо напевал.
Вслушавшись, Константин опешил — мелодию из «Семнадцати мгновений весны» он вряд ли мог бы с чем-нибудь спутать.
«Свистят они как пули у виска…»
В голове ощутимо зазвенел раскалившийся металлический болт, нахлынувшие последние воспоминания едва не взорвали мозг, а ноздри явственно уловили ни с чем не сравнимый кислый пороховой запах.
«Ни фига себе, глюки! У меня же пуля в голове!»
— Цырен! — он почти закричал, до боли зажмурился, аж до ломоты в глазах, тряхнул головой, и адский звон прошел. — Верни меня обратно!!!
Бурят от неожиданности крякнул, рука с горстью табака остановилась на полпути к трубке:
— Ты, однахо, шутник!
Цыренджап мелко захихикал, опустив голову. Только сухонькие плечи в здоровенном бушлате едва заметно подрагивали, да морщинистая кожа, словно у ящерицы, на горле тряслась в такт голове.
— Я тебе что, таксист? Заплатил и поехал? Ты мне в тот раз не поверил? Не поверил! Плохую жертву принес? Принес! Мало водки принес? Принес! — Он загибал пальцы.
— Да ладно, ладно! — Константин примирительно поднял вверх ладони. — Ну прости меня, я был неправ! Мне туда надо, понимаешь, очень надо!
— А ты думаешь, извинился, Цыренджап поворчал-поворчал, потом туда-сюда побрызгал, и… — Он хлопнул в ладоши. — Бурхан расщедрится, однахо, и будет тебе полная миска урмэ?
Бурят причмокнул, словно ощутив на губах давнишний сладковатый привкус сушеных молочных пенок, лучшего угощения, которое в детстве готовила его бабушка.
— Нет! — Он рубанул сухощавой ладонью по воздуху. — Раз ты оттуда вернулся, значит, такова твоя судьба!
— Н-но… — Константин ощутил разливающийся в груди лед. — Я не могу сюда вернуться! У меня там…
В голове мгновенно пронеслись чередой лица: Михаил, Колчак, Фомин, Вологодский, Троцкий, другие, и знакомые, и виденные мельком, но оставшиеся в памяти, — генералы, офицеры, казаки, белые, красные, мужчины, женщины, дети, грустные и радостные, счастливые и несчастные, многие, из которых теперь уже связаны навсегда своей судьбою с ним и новой Россией.
Но, самое главное, там осталась жена, не родившийся еще ребенок… И даже собравшись, он осмелился сам для себя допустить мысль о том, что у него есть еще нечто, главнее семьи — долг перед Россией и, что тяжелее всего, перед самим собой.
— Плохо, да? — голос бурята заставил вернуться к еще до конца не принятой реальности. — А ты как хотел? Если какую душу эрлик ухватит, то до конца уже не отпустит, мучить будет!