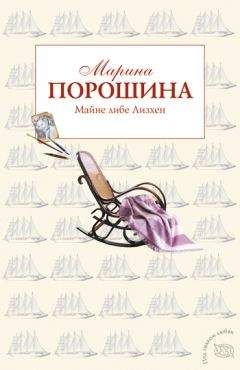А между тем где-то в районе сердца у Ожогина пробежал холодок. Еще раз. И еще. Сдавил грудь. Он читал про то, что «…наш русский режиссер Сергей Борисович Эйсбар, известный документальными новациями в киножурналах, отчаянными победами на фронтах киносъемочной войны, тоже примет участие в конкурсе… в его киноленту для голосования вошли…». Что это? Зачем? За что? «…вошли помимо прочего удивительные кадры! Последняя съемка несравненной дивы Лары Рай, которую г-н Эйсбар сделал в день печально известного пожара на кинофабрике А.Ф. Ожогина и которую никто никогда не видел! Все поклонники таланта Лары Рай и синематографической живописи… Характер Эйсбара известен — он неумолим… его камера может быть клинком или микроскопом…» Да, он неумолим. Как точно сказано — неумолим. И камера его, конечно, клинок. Самый острый и убийственный, какой только можно себе представить.
Ожогин медленно отложил газету, протянул руку к колокольчику, позвонил и попросил одеваться. Костюмная пара. Белый воротник под горло. Запонки. Он одевался быстро, сосредоточенно. Он не думал о том, что делает и зачем, просто твердо знал, что надо делать в этот момент. Сейчас он оденется, потом выйдет из дома, сядет в машину, поедет… Куда? Потом, потом. Он узнает это потом. Знание придет само. Вдруг Ожогин вспомнил, что скалапендры в ящиках смешного мультипликатора Збышека напомнили ему упражняющихся на турникетах солдат — палочки ног-рук складываются-раскладываются то в одну сторону, то в другую. Вот и он сейчас вел себя, как снабженный особым заданием солдат — узнать, добыть, посмотреть.
Хлопнула дверь дома, потом — машины. Цветные авто — васильковое и алое — уже два года как пылились в гараже. Ездил Ожогин теперь в черном «бьюике» и только с водителем. Неуверенно чувствовал себя за рулем. Сев в машину, он, не задумываясь, назвал шоферу адрес. Плющиха. Кинотеатр «Луна». В газете говорилось, что именно там проходит демонстрация конкурсных пленок. Выйдя из машины у входа в «Луну», он быстро, не глядя по сторонам, прошел через фойе в задние комнаты. Без стука вошел в кабинет директора. Директриса, пожилая дама из бывших театральных актрис, узнала его, озабоченно всплеснула руками, стала перебирать программки, озираясь, будто в поисках подмоги, пряча от него глаза. Чего-то испугалась, хотя Ожогин только задал вопрос про сеанс рекламной ленты Эйсбара.
— Да ведь перенесли показ-то! В «Пегас», на Тверскую! Давали дополнительное объявление. Верно, вы читали старую газету, — прокричал мальчишка, споро кидавший пленки в круглых металлических банках с полки на полку в маленькой комнатке, где ветвилась махина проекционного аппарата.
Ожогин молча развернулся, механическим шагом прошагал сквозь фойе в обратном направлении. Снова хлопнула дверь — кинотеатра… машины… Водитель не выключал мотора, будто почувствовав, что разворачивается гонка, неостановимая и неотвратимая, и сразу рванул с места, как только Ожогин опустился на сиденье.
— В «Пегас», — бросил он почти беззвучно. Крупными хлопьями пошел предновогодний декабрьский снег.
У входа в «Пегас» зажигали фонари, но свет в фойе еще был выключен — сеанс ожидался только через два часа. Ожогин не стал слушать объяснений юноши в форменной курточке и, не останавливаясь, пошел наверх по чугунной — ступени в вензелях — лестнице. Дал сонному механику сотенную бумагу. Показал рукой на металлическую коробку, на крышке которой значилось грубыми мазками масляной краски — «С. Эйсбар. Защита».
— Заряжай!
Механик положил купюру на полку, к журналу с потрескавшейся обложкой, взял коробку, ударил ее торцом об пол — заклинило крышку, — открыл и стал заряжать пленку в аппарат. Ожогин посмотрел на то, как в неверном свете желтой электрической лампочки слегка поблескивает эмульсия, развернулся и пошел в зал.
В зале он был один. Прошел в середину второго ряда, снял пальто, уселся. Механик следил за ним в свое маленькое окошко и, как только Ожогин расположился, запустил пленку. Пронеслись, проскрипели ненужные похороны японского дипломата, заслонившие весь кадр гигантские скульптуры бойскаутов с книжками в руках и сачками для ловли бабочек — новейшее архитектурное излишество на одном из московских домов, проплыло тяжелое брюхо дирижабля… Ожогин не понимал, что происходит на экране. Он ждал. И вот… Экран заполонил нежный дым и сквозь него, точнее вылепленные им, возникли очертания ее лица. Лицо плыло навстречу камере, как облако, и казалось, что оно вот-вот растворится, рассеется, исчезнет. Таким невесомым, неземным, призрачным оно было. Вдруг его черты исказила гримаса ужаса. Что-то вспыхнуло. Над ее головой возник золотой сияющий нимб. Несколько секунд он стоял, освещая ее искаженное лицо странным зловещим светом, кидая на него отблески безумия, выхватывая из зыбкого тумана случайные ненужные предметы. Кусок картонной вычурной декорации осветился и погас. Высокий столб с фонарем, что стоял в глубине площадки, покачнулся и упал. Мир рушился вокруг ее застывшей в ужасе фигуры с воздетыми руками. Аппарат застрекотал. На экране побежали пустые, перечеркнутые крест-накрест кадры. Пленка кончилась. Погас луч проектора. Полоску света, пробивавшуюся сквозь щель в двери, пересекла мышь. Ожогин машинально проследил взглядом, куда она бежала. Теперь он действительно оцепенел. Долго сидел, уставившись неподвижно в пол, и не мог подняться. Как оказался в автомобиле, не знал. Шофер вопросительно оглянулся на него и, не дождавшись приказа, повез домой. Ожогин вылез около подъезда, тихо и аккуратно закрыл дверь авто. Смиренно ждал, пока откроют входную дверь. Зачем-то поклонился горничной. Не сняв пальто и галош, прошел в Ларину спальню. Застыл на мгновение возле кровати. Закрыл глаза. Вспомнил, что не зря ему недавно снилась Лара, проносящаяся в креслице карусели высоко над землей. Подошел к туалетному столику. Выдвинул верхний ящик. Ящик выкатился плавно, будто ждал его руки. Сверху лежал маленький пистолет с изумрудом на рукоятке. Ожогин вынул его. Проверил, заряжен ли. Пистолет был заряжен.
Глава 4
Маленький пистолет с изумрудом
В тот день Эйсбар протелефонировал Ленни утром, попросил прийти в студию, подобрать для него негативы, которые хранил в пыльных коробках на антресолях. Сказал, что сам вернется с кинофабрики часа в три. Так часто случалось и раньше. Ключ от студии он дал Ленни в самом начале их знакомства. Она знала, что без разрешения в студию являться нельзя — это не проговаривалось, но подразумевалось, — и никогда не злоупотребляла доверием Эйсбара.
Его жилище, в котором он спал и работал, теперь представлялось ей совсем в другом свете. По разбросанным чертежам, книгам, что валялись вокруг дивана, двум треснувшим кофейным чашкам, одежде она узнавала его характер и привычки быта. Многое удивляло ее. Он не был особенно аккуратен. Вещи в этой большой сумрачной комнате валялись как попало. Однако рабочий беспорядок его стола был беспорядком превосходного качества. Карандаши, бумага, резинки, чернила, тушь, перья, фотографические приспособления — все было куплено в самом дорогом писчебумажном магазине в Столешникове. Так же обстояло дело и с личными вещами, которых насчитывалось весьма невеликое количество. Он не держал дома ни посуды, ни еды. Из всей утвари лишь две чашки, спиртовка и кофейная турка стояли на посудной полке. Он, очевидно, был равнодушен к быту, однако его равнодушие не распространялось на одежду. Его рубашки были дорогого полотна, костюмы — богемный вариант: твид, фланель, вельвет — пошиты у дорогого портного. Ленни знала, что он много тратит на прачку. И вместе с тем с удивлением обнаружила, что у него нет ни домашней куртки, ни халата, ни пижамы. Он спал голым, утром вскакивал, обливался за ширмами холодной водой, выпивал чашку кофе и через пять минут был готов выйти из дома. На ее робкий вопрос, не купить ли ему шелковый халат и, быть может, пара тарелок тоже не помешает, он засмеялся: зачем мне это?
…Ленни стояла посреди комнаты у большого стола, заваленного снимками, чертежами, рисунками, и перебирала негативы, когда на лестнице послышались его торопливые шаги. Он вошел стремительно, сорвал с себя пальто, с сосредоточенным выражением лица приблизился к ней сзади, развернул лицом к себе и опрокинул спиной на стол. Быстрым точным движением стянул с нее чулки и кружевные панталончики, задрал платье и положил ее ноги себе на плечи. Он действовал молча. Ленни не успела понять, что происходит — в руках она еще сжимала ненужные негативы, — а его тяжелая горячая ладонь уже легла на ее живот. Он с силой провел по животу снизу вверх, и по телу Ленни волной прошла сладкая судорога. Она застонала. Лицо Эйсбара побледнело и исказилось. Он был неистов, почти груб. Ленни стонала все громче и громче, дугой выгибаясь над столом, и наконец закричала от боли и наслаждения.