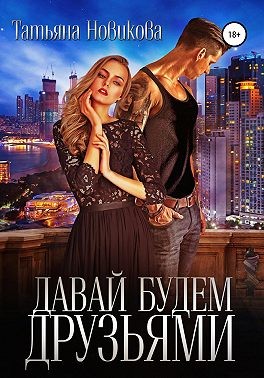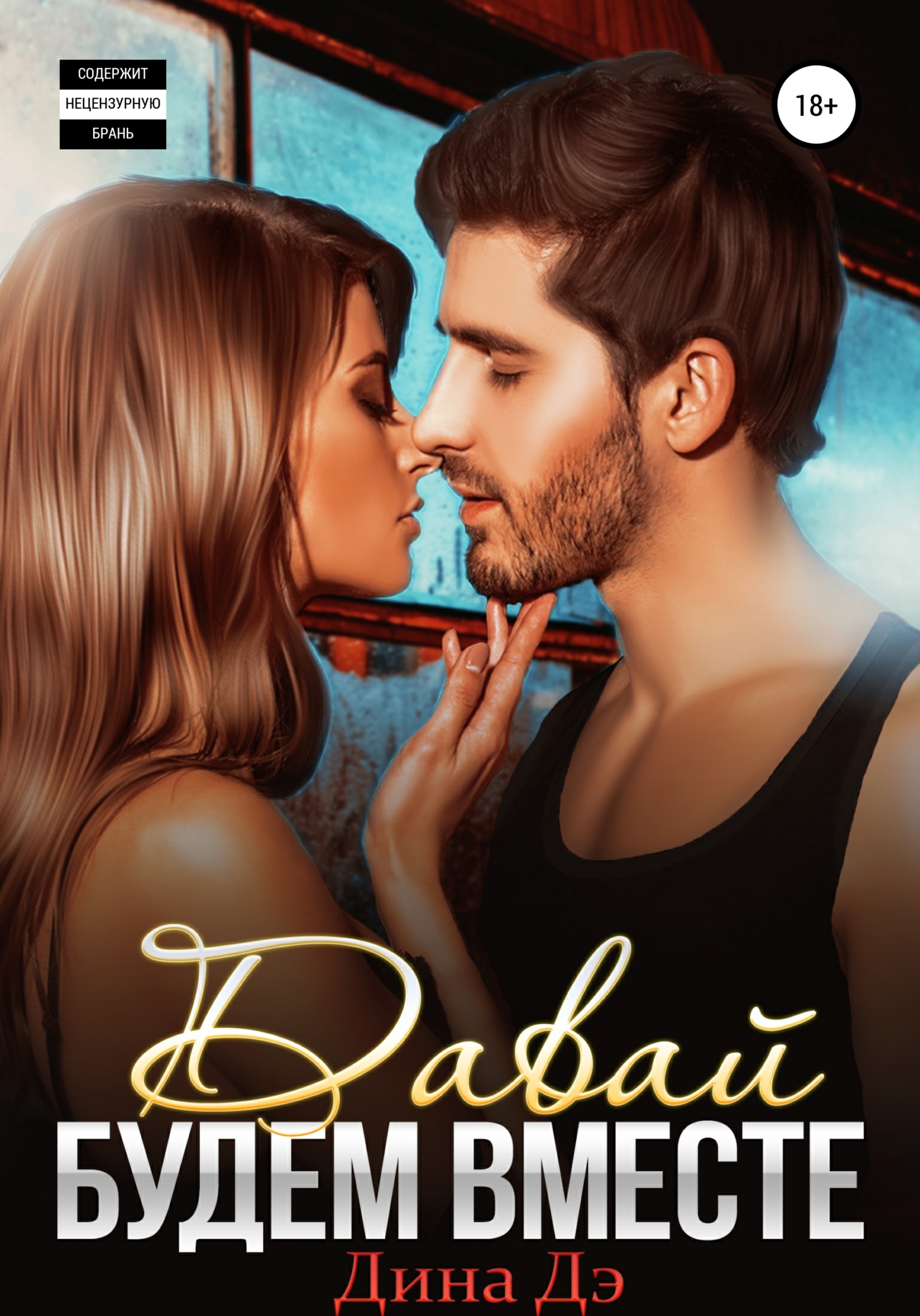одобрила. Оба выслушали бы от неё, чем комсомолец отличается от капиталиста. Устроить вам такое счастье?
Он взглянул на Славку, потом на меня.
Улыбнулся. Ударил ладонью по стене вагона.
— Нет, вы бы видели свои лица, — сказал он. — Не бойтесь, парни, не брошу я вас на растерзание Пимочкиной. Тебе Аверин и вовсе не к лицу трусить. Ты ж смотрел в дула китайских автоматов! А тут — всего лишь девчонка. Успокойтесь. Так что вы там решили со Светкой?
— А что мы могли с ней решить? — спросил Слава. — Меня она как будто не замечает. Я на её весы уже столько гирек за последние дни выставил! Толку — никакого. Пока Санька рядом нет, то вроде и ничего так: улыбается, что-то рассказывает, слушает меня. А стоит ему появиться — всё, нету меня больше.
Пнул ногой кочан капусты.
— Предлагаю оставить Усика в этом вагоне, — сказал Могильный. — Пусть едет в Москву вместе с капустой. Доценту скажем: сбежал парень, не выдержал тягот колхозной жизни.
Аверин сплюнул через борт кузова.
— Не смешно, — сказал он.
— Полностью с тобой согласен, — сказал я.
— Скучные вы, не интересно с вами, — заявил Пашка. — Не цените вы хорошие идеи.
Он покачал головой.
— Тогда предлагаю разобраться: что есть в Усике такого, чего не хватает в тебе, Славка.
— Эээ… чего во мне нет? — спросил Аверин.
— Нет, на вид так… ты уж прости меня, Сашок, но это в тебе много недостаёт. Хлипковат ты, но это пройдёт: откормим. Может, и подрастёшь ещё; хоть на пару сантиметров. А Славка — уже сейчас парень хоть куда. Пусть и не такой красивый, как я.
— Тоже мне — Ален Делон!
— Не обо мне сейчас речь, — сказал Могильный. — Лучше подумай, Слава: что Светка нашла в Усике, чего не увидела в тебе?
— Что?
Парни принялись меня разглядывать.
— Горло у меня больное, — сказал я.
— Эээ… не ври.
— Она так считает.
— И что с того? — спросил Пашка.
— Есть девчонки, которым нравится испытывать жалость: к щеночкам, к больным, к мужчинам, — сказал я. — Света Пимочкина одна из них. Ей нравится меня жалеть.
Попытался вспомнить, что читал в интернете (как же мне его не хватало!) о подобных случаях: когда-то специально разбирался в вопросе, чтобы помочь выскочившей замуж за алкаша помощнице.
— Она чувствует свою значимость, когда мне помогает. Ощущает себя «хорошей», «правильно воспитанной». Ухаживает за мной — доказывает свою «хорошесть» окружающим. Наш комсорг боится, что её посчитают «плохой» — доказывает всем и себе обратное. Как-то так. Другого объяснения я не нахожу.
Парни снова принялись меня разглядывать.
Я представил, что они видели: тощего, невысокого паренька, наряженного в сильно поношенные вещички — да и те будто с чужого плеча. Усик, небось, потому и таскал повсюду комсомольский значок — чтобы придать себе каплю солидности. Ладно, я хоть будёновку не одел! Иначе мои соседи по комнате в общежитии точно бы не удержались от истеричного хохота.
— Ну… признаю: тебя есть за что жалеть, — сказал Могильный. — Даже несмотря на здоровое горло.
Посмотрел на Славку.
— А вот тебя, Слава… Ты б хоть лицо жалобное сделал!
— Больно надо, чтобы меня жалели, — проворчал Аверин.
* * *
А вечером наш староста подвернул ногу.
Причём, случилось это не на капустном поле и не на погрузке — в столовой, на виду у большей части группы… и у комсорга.
Аверин вполне правдоподобно застонал, захромал. Ухватился за стену, согнав ползавших там мух. Я поспешил ему на помощь — подставил товарищу плечо. Староста навалился на меня всем своим немалым весом (или это я был таким слабым?), с видимым трудом доковылял до лавки — с гримасой нестерпимой боли на лице. Я помог Славке присесть — спросил, что с его ногой. В ответ Аверин опять застонал, заявил, что перелома ноги нет… «я так думаю», что «всего лишь» потянул связки… «наверное».
Парни загалдели, обсуждая Славкину неловкость — девчонки сочувственно заохали. Усатый доцент схватился за сердце, подбежал к Аверину — попытался поставить диагноз, разглядывая обутую в сапог ногу. Света Пимочкина тоже дернулась было в нашу сторону. Но вдруг замерла, задумчиво посмотрела на ковш с большой деревянной ручкой, который держала в руке. Завертела головой, кого-то высматривая. Комсомольский значок блеснул на её груди, будто капля крови (в колхозе значки носили только комсорг и я).
Света замахала незанятой рукой, привлекая внимание кого-то из студентов.
— Надя! — крикнула Пимочкина. — Боброва!
Никогда не исчезавшая с горизонта старосты Надя Боброва ринулась к соседке по комнате, легко расталкивая студентов мощными плечами.
— Надя, — сказала комсорг. — Взгляни, будь добра, что там случилось со Славой. Ты же спортсмен — разбираешься в травмах. Я бы и сама посмотрела. Но не могу: мне нужно срочно подогреть питьё для Саши Усика.
Перед отъездом из колхоза я с удивлением узнал, что вкалывал неделю не бесплатно. Получил из рук суровой колхозницы три непривычно маленькие по размерам купюры — одну номиналом в три руля и две по рублю. Радовался деньгам не меньше прочих студентов. Потому как не был уверен, что найду в вещах Александра Усика золотые горы. А пять рублей пусть и не делали из меня богача, но обещали: я не помру от голода до того, как определюсь с путями решения бытовых проблем.
В автобус я заходил уже не чужаком — советским человеком (во всяком случае, за неделю научился таковым выглядеть: на меня не указывали руками, обзывая сумасшедшим или «буржуем»). Дым от папирос водителя пришёлся кстати — от собравшихся в салоне студентов попахивало вовсе не ароматами стиральных порошков и кондиционеров. Но ни от кого из первокурсников не несло алкогольным перегаром, как это было бы, отправься студенты в колхоз в девяностых.
Перекличку не устраивали. Должно быть, усатый доцент не поверил, что кто-либо из студентов захочет остаться в колхозе. Первокурсники неорганизованной толпой ринулись занимать места — те самые, на которых неделю назад покидали город. Нарушители «порядка» слышали гневные крики: «Я здесь сидел!». И не спорили — покорно уходили с «чужих» мест. Даже Пашка Могильный и Ольга Фролович не уселись вместе. Поддался этой странной тенденции и я: плюхнулся на сидение рядом с Надей