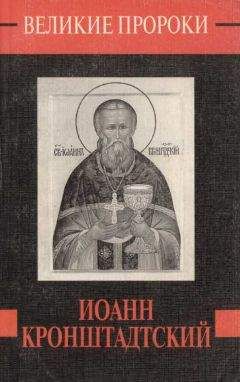Дальнейшая диспозиция не изменилась, оставшись той же, что и на переговорах с Рузским. Мы сели за небольшим столиком. Вокруг царили тепло и уют: зеленый шелк по стенам и мягкий электрический свет, изливающийся на него с потолка.
Политическую программу изложили мне, не стесняясь и сухо, суровым чиновничьим речетативомречитативом — почти дословно повторив слова командующего фронтом об отречении.
Мне оставалось лишь слушать и бессловесно кивать.
Вся эта игра с переворотами являлась не моим делом, ведь я не являлся русским и, тем более, русским царем. Однако страшное чувство вдруг заполнило меня изнутри. Я слабо знал историю. После знакомства с энциклопедией, — возможно, немного лучше, чем среднестатистический обыватель, но все же до профессионального историка мне оставалось невообразимо далеко. Однако мне был известен простой несомненный факт: Россия являлась одной из величайших Империй, когда-либо созданных человечеством. По занимаемой территории чудовищная русская монархия превосходила Рим, Византию и империю Карла Великого, вместе взятыех.
И то, что ее конец вдруг явиться столь ничтожной, позорной, ублюдочной данью, потаканием прихоти мелкой кучки интриганов, не рассчитавших бешенства голодной толпы — было не правильно, не верно! Всё было, не так! Как будтоЭто словноКак если бы Александр Великий скончался в начале своих славных походов. Как будто бы Цезарь умер от гриппа в Галлии, не перейдя Рубикон. Все это не укладывалось в голове…
И вдруг совершенно четко, как будто отщелкнув тумблером где-то в самой глубине чужого мозга, я понял ясно и чисто, словно увидев перед глазами картинку с потрясающим разрешением, в самых мельчайших деталяхей: — такого нельзя было допускать!
Станция Дно.
В то же мгновение.
— Я понял. Текст достаточно прост. Вы дадите мне время? Ххотя бы полчаса? — спросил я, выпрямившись из позы сгорбленного ничтожества и взглянув, наконец, на господ-депутатов в упор.
— Разумеется, Ваше Величество, — Гучков даже не улыбнулся.
— Прекратите паясничать, сударь, — прошипел Воейков. — Перед вами все-таки Император.
— А вы выметайтесь! — вскричал Гучков, чувствуя себя хозяином положения.
— Хватит, — попросил я.
Все замолчали. Воейков, бледный как тень. Самодовольный, но все же напряженный Гучков. Вспотевший под мундиром Рузской, а также Шульгин, монархист, немой, дрожащий как осиновый лист.
Я вышел.
Вагон-салон, как любой другой вагон любого поезда — пусть даже Личного Его Величества императорского бронесостава, имел два выхода: первый — в который вошли «Господа» и второй через который я только что вышел. Тамбур мог вывести меня в следующий вагон, предназначавшийся для сна и отдыха — там я мог находится наединеостаться наедине с самим собой. Двери вагонов, ведущие на перрон, были закрыты, вдоль линии дежурили солдаты Рузского. Не революционные солдаты и не толпа из рабочих разграбивших арсенал — обычные солдаты обычной армии, серьезные, спаянные дисциплиной, отнюдь не бунтовщики. Вероятно, я мог бы раскрыть сейчас дверь, кинуться вниз, закричать. Конечно, меня бы узнали, и тогда, вероятно, призови я на помощь, кто-то из монархически настроенных стрелков вступился бы за меня. Только смысл?
Рузскому подчинялся весь фронт. И черт его знает, как отреагируют рядовые, если я велю им стрелять в своего командира.
Мозг лихорадочно соображал. Так вот, о каком именно «критическом положении» меня предупреждал хронокорректор. Отпущенные мне семь дней я немыслимо заблуждался, с уверенностью, основанной на невежестве, я ожидал угрозы от всех: от социалистов, от рабочей партии, от бунтующих пролетариев, от гнева голодной толпы, от солдат гарнизона, не желающих воевать за «чуждые им интересы», от депутатов Думы наконец, от промышленников и даже от зажравшихся аристократов. А оказалось… банальней.
Николая сверг заговор генералов!
Энциклопедия повествовал мне ясно о последующих событиях — после отречения Императора, дума — эти крикливые болтуны, способные лишь плести интриги, — не сможет удержать власть. А легитимности или веры, у них, в отличие от меня, просто не хватит. Как только я поставлю подпись под отречением, все провалится в пропасть.
Только после отречения Императора рабочие партии начнут собирать отряды из пролетариев, только после этого — когда отпустятся вожжи, взбунтуется «красный флот». Только после этого начнутся солдатские мятежи, немыслимые в воюющей армии. Но пПока еще — не было ничего этого было ничего. Только кучка подонков в соседнем вагоне, демонстрации безработных в столице, стрельба в воздух резервных тыловых частей, не желающих отправляться на передовую.
Смешно. Но как я ни старался, я не смог преодолеть ту черту, которую не смог перейти и сам Николай Второй. Со всеми своими знаниями будущего, с моим «современным» взглядом и якобы более решительной волей — я оказался бессилен против удара предателей в спину. Чуть более оперативные сборы в Ставке, чуть более быстрая отправка с «мнимыми» войсками на Петроград — и все. Результат тот же. Царь в западне, в окружении вражеских солдат с кучкой никчемных придворных. Через стенку сидят Гучков и Родзянко, я подпишу отречение. Или …
Кстати что будет, если — «или»?..
Логика предписывала простейший выход: табакеркой в висок как Павлу, удушение подушкой как Петру Третьему. А проще — полет свинца в лоб. Двадцатый век, черт бы его побрал, это столетие неумеренного прогресса. Табакерки нынче не в моде.
Убьют. Потом объявят, что отрекся. Миллионы людей в губерниях и областях великой России не будут сличать подписи на бумагах. Есть телеграф. Есть газеты. Между прочим, предыдущее, «реальное» отречение, по данным энциклопедии было написано Николаем на телеграфном бланке простым карандашом — не пером! Тем не менее, это не помешало.
Наследником является малолетний Алексей, а значит — мое отречение в его пользу всего лишь формальность. Один выстрел мне в голову — и императором автоматически станет маленький больной цесаревич.
«Ну что же, Николай Александрович, — криво усмехнулся я, обращаясь к своему «альтер эго», — мое присутствие тебя не спасло. Мы опять проиграли».
Или?..
«Каждый есть сам творец жизни своей и да воздастся ему смерть, кою он заслужил деянием своим».
(Фома Аквинский)
Или!
Решившись, я медленно поднял голову и осмотрелся кругом. В отличие от «прошлого» Николая, мы с моим носителем знали, чем закончится его последний февраль. Царю пообещают спасение, возможность выезда в Англию вместе с семьей. Он откажется, — ведь русский царь должен оставаться в России, — и останется, в отличие, кстати, от большинства высших дворян, будущих белоэмигрантов. Дума гарантирует ему безопасность на всей территории великой и необъятной. Однако уже через десять дней после данного обещания, семью Императора арестуют. Мне, а значит и Николаю, было прекрасно известно, чем закончится этот арест, энциклопедия сообщала об этом сжато, но очень доступно, рисуя перед глазами жуткую картину цареубийства. И если не ради себя, то ради жизни жены, четырех дочерей и малолетнего Алексея, мы с Николаем должны были попытаться!
Нельзя сказать, действовал ли в этот момент лично я или царь Николай Второй. Мы не отличались сейчас один от другого — только лишь информацией, маленьким клочком знаний о будущем, не о фантастической технике или вершинах науки, а о будущем собственных жены и детей. В отличие от меня, никогда не носившего оружие, Николай являлся профессиональным военным и обращение с шашкой, конем, винтовкой, наганом, не было ему чуждым, это являлось частью всякого дворянина — обыденным делом, не требующем усилий со стороны мозга. Привычным, как работа печени или сердца. Требовалась только воля, маленькое решение. Остальное — прошло на рефлексах.
В соседнем вагоне, через дверь от менятамбуре, примерно в метрах двух от меня, находился сановник свиты адмирал Нилов. Я открыл дверь и вошел.
Его мМассивная, скалообразная фигура адмирала с косой саженью в плечах, произвела на меня впечатление в дни совместного путешествия своими размерами и скрытой в размерах мощью, однако сейчас, придворныйадмирал выглядел жалко. Выражение побитой собаки на некогда уверенном и сильном лице, вызывало почти отвращение. Бывший капитан черноморского миноносца, в двадцать один год потопивший в бесстрашной лобовой атаке турецкий монитор, бравый моряк, довоенный командир Гвардейского экипажа и мой личный флаг-капитан, сейчас выглядел подавленным и несчастным.
Настроение царских вельмож, впрочем, в данный момент меня совершенно не занимало.

![Джек Вэнс - Умирающая Земля [ Умирающая земля. Глаза другого мира. Сага о Кугеле. Риалто Великолепный]](https://cdn.my-library.info/books/58528/58528.jpg)
![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](https://cdn.my-library.info/books/57052/57052.jpg)