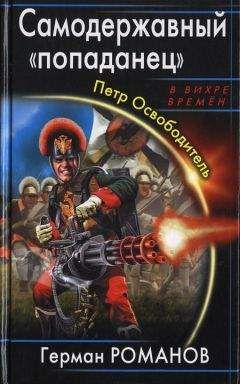А потом были казни — предсмертные крики уже не ввергали ее в ужас. Еще она видела глумление вчера боготворившей толпы, презрение и подлый хохот над муками. Ожидала смерти, но на эшафоте прочитали ее вины и злодеяния, набросили на шею веревку, но казнь так и не началась — помиловали.
Однако жизнь была не в милость — она медленно угасала в Соловецком монастыре, лишенная всего — семьи, детей, мужа, возможности общаться и писать. Через год, ничего не объяснив, увезли в Валаамский монастырь, что на Ладожском озере, и там…
— Я хочу поговорить с вами, княгиня, в последний раз!
Знакомый до дрожи голос вывел Дашкову из дремотного оцепенения, и она вскинулась на жестком монашеском топчане. Келья уже была освещена принесенными свечами, горевшими в массивном подсвечнике, а напротив ее на деревянной лавке сидел самый ненавидимый ею в этом мире человек. Голштинец, император — погубивший ее планы, помыслы, жизнь.
— Я не собираюсь приказывать вас удавить здесь! Отнюдь! Как бы ни сложился наш с вами разговор, но после него вы можете отъехать в Европу. Средства на проживание вам будут выплачиваться мужем и братом.
— Я могу выехать с семьей?!
Только сейчас Дашкова окончательно пришла в себя и рывком села, укутавшись в плед. За секунду в ней снова вспыхнула жизнь, надежда стала разгораться в душе. Уехать из кошмара и снова начать жить, радоваться солнцу и детям. И тут же она сообразила, что допустила бестактность — не следует злить своего палача.
— Ваше императорское величество, вы не шутите? Это было бы жестоко в моем положении!
— Нет. Но поедете только вы одна! — Император чуть улыбнулся, и она сразу уловила печаль в этих тонких губах, а напрягшимися чувствами и душой поняла, что в нем нет сейчас злобы и жестокости.
— Я говорил с вашим мужем! Он согласен выполнить мое приказание в обмен на ваше освобождение!
— Какое указание, государь?! — Душа разом напряглась. Шуткой здесь не пахло, не та ситуация. Что же он потребовал у мужа?
— Я назначаю князя генерал-губернатором Восточной Сибири! И он дал слово, что приложит все усилия для налаживания золотодобычи и превращения Иркутска в действительно европейский город! А также сделает все для просвещения и организует там второй в России университет.
— Что?! — Новость обухом ударила ее по голове, и Дашкова непроизвольно вскрикнула.
— Он навечно с детьми уедет в Сибирь, спасая вашу жизнь и свободу! Это его жертва — он любит вас!
— Лучше прикажите меня убить, ваше императорское величество! Я не могу принять такое от своего супруга… — голос княгини прозвучал глухо. — Помилуйте их, государь!
— При чем здесь помилование? — Как показалось ей, голос императора прозвучал удивленно. — Ваш муж добровольно сделал свой выбор, и я дал ему слово. Я могу лишь сказать, что выбор за вами, Екатерина Романовна, и вы, только вы сами сможете спасти и себя, и мужа, и детей!
— Что я должна сделать?! Что еще написать?! Я заложу вам душу, если вы это пожелаете! — В ней впервые проснулся страх за детей и мужа.
Тяжелая леденящая скорбь сдавила сердце оттого, что не любила этого благородного человека, а на его ласку отвечала холодностью. И теперь она должна искупить сей грех, пусть даже ценой жизни…
Троянов вал
Раскинувшееся за валом поле было совершенно пустынным — турки почему-то и не думали оборонять довольно высокую насыпь, сооруженную еще римским императором Трояном для защиты от набегов с Дикого поля — а так называлась в истории, как знал Петр, огромная территория от Днестра чуть ли не до Волги.
Здесь, по выражению кого-то из византийцев, кончались рубежи цивилизации и начиналось скифское варварство, а позже московитское и татарское, как привыкли называть эти места в Европе.
— Павлины, говоришь?! — пробормотал Петр в такт своим мыслям. — А ведь теперь все наоборот. С севера идут европейские русские, а на юге оборону держат восточные варвары. А как их назвать, коли турки покрывают крымских татар, а те уже чуть ли не триста лет открытым грабежом соседей живут да работорговлей занимаются?
И как только он про татар прошептал, так скривился, будто свежий лимон зажевал, а затем в рот живую жабу засунул. Тот еще народец за крымскими перешейками засел — прямо наказание бесовское!
В прошлом году Петр распорядился принести ему все материалы про татарские набеги. Сизифов труд оказался, непосильный даже для отлаженной бюрократической машины. В сенатском архиве чуть ли не неделю горбатились, полную комнату свитками и летописями забили.
Пришлось попросить краткий перечень по годам — когда набег состоялся, чего разорили, сколько людей в неволю угнали. И поскорее написать — проволочек Петр не любил!
Чиновники, два десятка человек, трудились две недели денно и нощно. Принесли толстенный фолиант, страниц на пятьсот, по числу набегов. И стоило углубиться в чтение, как волосы дыбом встали. Как начали с середины XVI века, еще при Иване Грозном, за рабами на русские земли ходить, так без перерыва два века с лишним и терроризируют натурально!
В старых летописях подсчетом уведенных крымчаками в рабство русских поселян почти не занимались, в ходу были обороты «зорили нещадно», «лютовали», «в полон увели». «Глад великий и разорение» после тех набегов были. И подтверждение — длинный список волостей, что почти полностью «обезлюдели».
А при Михаиле Федоровиче цифирьки появились, не всегда и не везде, где-то на половину набегов. При Петре Первом и позднее подсчет стал регулярным — и дар речи потерять можно было, стоило сложить их, а потом вывести сумму. Чуть ли не миллион христианских душ!
И польскую пока Подолию грабили и разоряли не менее беспощадно, скольких убили?! А ведь из невольников только каждый второй до Крыма доходил — слабых, больных и немощных рубили без жалости. Недаром шляхи, что в Крым идут, «солеными» от человеческих слез называют, а в Малороссии самое страшное проклятие в ходу, и какое — «чтоб тебя татарская сабля посекла».
Петр прикинул размеры людских потерь за двести лет и побагровел, потом побледнел от ярости — чуть ли не четыре миллиона человек. Пятый житель нынешней Российской империи! Но ведь при Иване Грозном население было в пять раз меньше! Это сколько они крови русской выпили?!
Захотелось повстречаться с одним классиком и намотать его бороду на кулак — ты это чего, Карлуша, о феодальном и капиталистическом способе болтал?! Тут самое натуральное рабовладение, а способ создания материальных благ основан на грабеже. И ведь не боятся ответа, совсем без «башни»! С пруссаками пока воевали — татары четыре набега совершили, увели и убили 12 тысяч душ. Десять лет прошло с той поры всего!
Последние пять лет унялись, на империю набеги почти не совершали, так, на рубежах хапали тех, что рот раззявили. Зато подольским хохлам досталось, а ведь души-то свои, православные.
Русские послы в Константинополе каждый год требовали и просили султанских чиновников унять татар, но без толку. Турки бакшиш охотно принимали, но руками разводили — татары-де самостоятельны, и султан не может им приказать за добычей и рабами к соседям не ходить, ибо помрет народец крымский тогда от голода, поелику ничем другим заниматься не умеет.
«Ну, раз султан не в силах, то, может, у нас получится как-нибудь разбои унять?» — резонно вопрошали послы. Но стоило русским на Крым с отместкой сходить, как османы тут же войной гяурам грозили. И что ты будешь делать?!
И он вспомнил школу — был у них в третьем классе ученик один, всех достал пакостями. Побить его не могли — у того в восьмом классе братик был мордастый с кулаком тяжелым. Но через год дождались своего — тот сам нарвался, и десятиклассник отлупил его. И сразу младшему сопатку начистили всем скопом — притих, паскудник, стал шелковым.
Так и здесь — если сегодня турок в плоский блин раскатать удастся, то татарам кирдык наступит. Орду обратно не пропустят, а если она попытается прорваться, то по Днепру флотилия ходит — пусть рискнут переправиться! Через пару месяцев русская армия на Крым пойдет, татар там мало осталось, хан ведь всю орду сюда увел, чтоб раз и навсегда с этим разбойничьим гнездом покончить…
— И горе им, если за сабли схватятся!
Юконский острог
Григорию Орлову не спалось — маета сплошная, весь на кровати извелся. Женское тело обжигало грелкой — скво дрыхла без задних ног после тяжелого трудового дня и не менее тяжкого, но более жаркого вечера.
— Да что ж это такое творится, святые угодники? Всегда почивал хорошо, засыпал почти сразу и сновидениями не мучился! — пробормотал он и перевернулся на другой бок, подальше от «постельной печки».
Весь искрутился, тело колется, будто не тюфяк под ним, а скошенина, на которой в детстве без обувки подошвы ног себе истыкал, когда сдуру пробежался. Хорошо, что клопов нет, а то добавили бы ужаса.