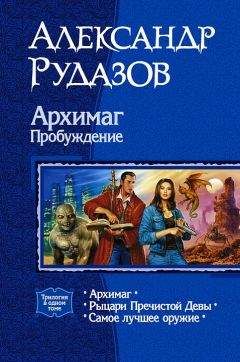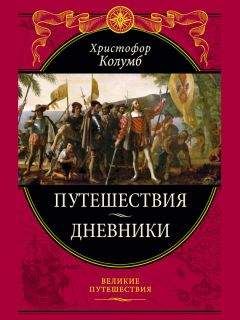– Пожалуйте испить, ваше императорское высочество.
Лишь очень опытное ухо уловило бы в голосе дворецкого слабую нотку осуждения. Камердинер – тот уловил бы. Но камердинер был занят в соседней каюте чисткой парадного мундира цесаревича и уже почти избавил дорогую ткань от следов блевотины.
Испив рассолу, наследник начал оживать. В это время постучали в дверь, и стук – о диво! – не отдался у цесаревича в голове болезненным звоном. Обрадованный этим новым и приятным явлением в организме, Михаил Константинович разрешил войти.
– Халат, халат наденьте, ваше императорское высочество, – зашелестел дворецкий, в ответ на что цесаревич пробурчал: «Да отвяжись ты, Лабардан Селедкович», – но одеть себя позволил.
Вошли Лопухин и Розен. При виде цербера из Третьего отделения цесаревич помрачнел лицом.
– Ну? – буркнул он неприязненно. – Что у вас?
Ему было ясно, что у них. Как будто наследнику нельзя и пошалить немного! Опять цербер будет стыдить, угрожать и выкручивать руки. Механизм, а не человек, веселиться совсем не умеет. Еще не стар, а хуже старой перечницы. На-до-ел!!!
К его удивлению, лицо Лопухина было приветливо, и поздоровался он отменно вежливо. Подозревая подвох, наследник ответил невнятным ворчанием.
Дальше случилось совсем удивительное. Повинуясь мановению графской руки, в каюту проник чисто одетый матросик, бережно несущий серебряный поднос с серебряным ведерком. От запотевшего ведерка, где зябла бутылка «Клико», немедленно повеяло холодом и туманом. Казалось, бутылку вот-вот затрет во льдах, как какое-нибудь несчастное судно.
– Поставь сюда, братец. Спасибо. Ступай.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие! – петушиным фальцетом выкрикнул матросик, прежде чем уйти, и заставил-таки цесаревича болезненно сморщиться.
Впрочем, ненадолго. Ледяное шампанское властно притягивало взгляд и, даже не будучи выпитым, бодрило дух. Михаил Константинович предложил гостям присесть на кушетку. А уж когда молчаливо-покорный Карп Карпович выставил фужеры, а граф чисто по-офицерски отбил горлышко бутылки о край стола, цесаревич пришел в восторг. Вот это по-нашему, по-гвардейски! Браво. А цербер-то ничего, даром что из Третьего…
Шипящее вино ударило в нос и затылок. Минута – и мозг перестал пылать, и заблестели глаза. И жизнь – эта сволочная жизнь, полная условностей, глупых правил, нудных папенькиных нотаций, церберов и соглядатаев, – вновь стала хороша! Начинался новый, чудесный день!
Карпа Карповича, не дерзнувшего пискнуть, но выказывающего неодобрение взглядом, быстренько выставили вон, чтобы не портил настроение. Остались втроем. Лишь Розен сохранял на лице угрюмое выражение.
– Полковник, ты это что? Неприятности, а? Ты это брось. Наплюй на них, так вернее будет. Господа, а не повторить ли нам?
– Как будет угодно вашему императорскому высочеству, – поклонился Лопухин. – Прикажете еще шампанского?
– Брось, граф! Какое я тебе императорское высочество? Для хороших людей я просто Мишель. А ты, значит… как тебя?.. ты – Николас. Идет? Ну вот и чудно, я сразу понял, что ты добрый малый. Мы с тобой сейчас на брудершафт выпьем, только не шампанского. Давай-ка дернем коньячку, тирьям-пам-пам. Согласен?
– Само собой, Мишель! – расцвел Лопухин. – Полковник, вы поддерживаете идею?
Кивнув через силу, Розен понял, что плохо владеет эмоциями. Лопухин не стал пинать его под столом, но мимолетным взглядом дал понять: ну что же вы? Ведь договорились!
Пришлось вымучить улыбку. Розен был не рад, что дал втянуть себя в эту затею. Ведь стыдно. Ведь срамно. Лопухину что – у него служба такая и глаза особой конструкции, не выедаемые стыдом. Но неужели цесаревич настолько глуп, что не чует, как его заманивают в примитивную ловушку?
И Розен понял: не чует. Есть люди, которым прямо-таки противопоказано пить. Которые не умеют пить, никогда не научатся пить и все равно пьют напропалую. Это уж у них от природы. В трезвом уме Михаил Константинович был человеком средних способностей – ум у него имелся, пусть и невеликий, тот ум, что называется рассудком. Беда в том, что вот уже много лет мало кому удавалось застать цесаревича в трезвом виде, а в пьяном он всегда был вроде умалишенного…
– Насчет коньяку я сейчас распоряжусь, – привстал Лопухин.
– Брось, Николас! – махнул рукой цесаревич. – У меня, знашь ли, этих коньяков… У меня коллекция. Видал? Три сундука, тирьям-пам-пам. Коньяки и бренди со всего света, какие только душа пожелает. Даже южноафриканских два. «Звезда Трансвааля» и «Ауграбис». Хочешь?
– Какие разговоры, Мишель!
– О, это по-нашему! Ты, граф, букой на меня не смотри, как давеча, ты проще будь. Я простых люблю. И буду любить, а меня за то народ полюбит, так ведь? Я зна-аю! Тебя, полковник, тоже касается. Ну, с чего начнем? С «Ауграбиса»? Вот дьявол, что за название такое? Кого ограбис? Зачем ограбис? На сколько ограбис? – И цесаревич захохотал.
– Ауграбис – это водопад на реке Оранжевой, – скованно произнес Розен. – Превосходит высотой водопад Виктория.
– Все знает! – восхитился цесаревич. – В Генштабе они такие! Спроси что угодно, ну хоть как называется самая высокая вершина в Гималаях – ответят ведь!
– О высочайших гималайских пиках точных сведений не имеется, – еще суше отозвался Розен. – Геодезическая съемка данного района еще далеко не завершена. Вдобавок ее ведут англичане и, разумеется, секретят все данные.
– Сволочи! – осудил цесаревич. – Не люблю англичан. Вот немцы еще туда-сюда, тирьям-пам-пам. Да. О чем, бишь?.. Николас, где коньяк?
– Сей момент, Мишель.
Покопавшись в одном гигантском сундуке, Лопухин перешел ко второму. Раскопки имели успех: на свет явилась «Звезда Трансвааля». Поскольку цесаревич не имел понятия, где находятся коньячные бокалы, а дворецкого решили не звать, Лопухин ничтоже сумняшеся разлил янтарную жидкость по фужерам. Быть проще? Пожалуйста! Сколько угодно.
Чокнувшись, выпили залпом. По лицу Розена прошла судорога. Михаил Константинович перекорежился и вмиг стал похож на несчастного забулдыгу, коему шутки ради поднесли уксусу вместо казенной водки.
– Нет, – сказал он, сделав судорожное движение кадыком, и с величайшим трудом овладел собой. – Это мы пить не станем. Пусть буры да англичашки этим пойлом зулусов травят.
Бутылка полетела в иллюминатор. Лопухин уже копался в сундуке, выбирая новую…
И дело наладилось. Спустя полчаса, когда понадобилась следующая бутылка, цесаревич уже не вполне твердо владел речью, Розен расстегнул мундир, Лопухин закурил папиросу, не спросив разрешения, а перечень дежурных тем для разговора был исчерпан, откуда-то вылетело само собою:
– А не сообразить ли нам банчок, господа?
Розен, и тот проявил энтузиазм, пусть вялый. Зато цесаревич горячо поддержал идею. Только пусть будет короткая игра на удачу и без записи. Разумеется, на наличные. В макао? Годится, тириям-пам-пам. А почем? Как-как? Всего-то по полусотенной? Граф, здесь не приют для неимущих. Что за скопидомство, Николас! Ставка пять сотен, идет?
Лопухин кивнул, и Розен принудил себя сделать то же самое.
Вызвали Карпа Карповича и погнали его за колодами. Дворецкий метнул было на графа укоризненный взгляд, но свой протест выразил лишь тем, что принес карты не слишком скоро. За это время собутыльники успели налить и выпить по новой.
– Ну-с, держись, Мишель! – весело проговорил Лопухин, с треском распечатывая две колоды и ловко смешивая их. – Не пожалей потом. Не боишься, что раздену?
Цесаревич только выпучил глаза и захохотал в ответ.
«Дурак, – с холодной ненавистью подумал Розен. – Тебя ведь предупреждают всерьез, как можно не понять? Этот тип хочет, чтобы все выглядело честно. Гм… Надо будет последить за его руками…»
Напрасно: пальцы графа, хоть и двигались проворно, не показали ни одного из известных Розену финтов, служащих шулерам для отвлечения внимания. Карты не могли быть краплеными. К тому же Лопухин, по очереди выступая в роли банкомета, проиграл четыре раза подряд. На своей сдаче! В четвертый раз он выплатил цесаревичу утроенную ставку за девятку без прикупа, а Розену – удвоенную, после чего, извинившись, ненадолго удалился к себе и вернулся с весьма оттопыренными и упругими от ассигнаций карманами.
– Продолжим!
– Вот за это люблю! – крикнул цесаревич. – Это по-нашему. А говорил, будто играешь без азарта. Врун ты, Николас, тирьям-пам-пам. Я зна-а-аю! – Он погрозил пальцем и икнул. – И все равно я тебя люблю, шельмеца. Чья очередь банкировать?
– Твоя, Мишель. А ну-ка, сдай мне девятку…