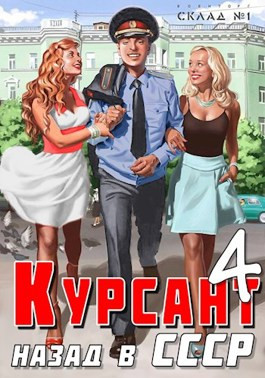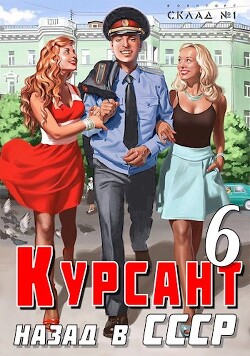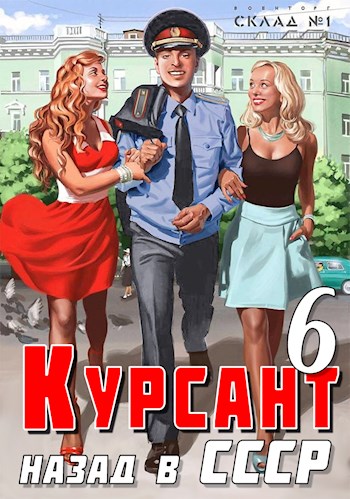баритон выводил арию Вольфрама из «Тангейзера». Такой себе способ взбодриться в начале дня, на мой вкус…
Дверь любителя прекрасного была распахнута. На одной из створок табличка: граф Эрнст-Отто фон Сольмс-Лаубах. Я аж присвистнул про себя. Личность этого типа запомнилась еще с прошлой жизни. Этакая смесь циничного фашиста и ученого — навсегда запала в память.
Помню, еще на экскурсии в Янтарную комнату нам рассказывали про него, что этот самый тип имел докторскую степень по искусствоведению. Именно он и занимался вывозом наших музейных ценностей на оккупированном северо-западе. Именно он, буквально через два месяца, похитит и перевезет Янтарную комнату через Псков в Кёнигсберг, а после, ее следы в конце войны бесследно исчезнут и великое культурное наследие России будет навсегда утрачено.
— Герр граф… — лопоухий приостановился на пороге.
Кабинет поражал шиком. Сразу видно к графьям попал. Паркет застелен красными дорожками, которые ведут прямиком к массивному столу из красного дерева с орнаментами. Вещь явно старинная и музейная и у советского государства стыренная (не приволок же он эту бандуру с собой из Германии). На столе — патефон «Одеон», из которого и голосил рыцарь-певец. На окнах портьеры с золотистыми кисточками, у стен сверкающие благородной полиролью комоды на изогнутых ножках.
За его креслом на стене нет привычных для таких мест красных полотнищ с черной свастикой, как у военачальников, а лишь висит неизменный портрет фюрера. На ростовом изображении Адольф скривился в экстазе пламенной речи, выставив вперед руку.
За столом восседает хозяин кабинета. Сухой, поджарый, но уже не молодой в элегантном костюме цвета вороньего крыла в еле заметную серую полоску. Лицо с утонченными чертами изрезано морщинами, но пепельная шевелюра без проседи и проплешин. На вид ему около полтинника. Он сидел, прикрыв глаза. А его руки с длинными аристократическими пальцами порхали в воздухе в такт голосу оперного певца. На породистом лице такое блаженство, что даже как-то неудобно. Будто застали его в тот момент, когда он дрочит.
— Герр граф… — лопоухий вежливо покашлял. Граф недовольно сморщился, но глаза не открыл. Только рукой дернул небрежно так. Мол, подождете, не развалитесь.
Ария закончилась, раздался мерзкий скрип иглы о пластинку. Хозяин кабинета приоткрыл затуманенные глаза. Изящным движением он вернул патефонную иглу на место.
— Восхитительно! — с чувством выдохнул он и продекламировал. — О, нежный луч, вечерний свет! Я шлю звезде моей привет!
— Приветствуй ты ее, звезда, от сердца, верного ей всегда! — закончил я вполголоса.
— Разрешите обратится, герр граф? — мой сопровождающий принял стойку смирно. — Это русский, я вам про него докладывал, тот самый с арийскими корнями.
Лицо хозяина кабинета чуть скривилось. Он поморгал, будто только что нас заметил. Скользнул равнодушным взглядом по лопоухому гауптштурмфюреру, потом его прозрачные светлые глаза остановились на мне.
— Оставьте нас Карл, — кивнул граф.
— Но герр граф, — возразил лопоухий, бросив на меня короткий взгляд. — Мне бы не хотелось оставлять вас с этим русским наедине. Мы же не убедились, что…
— Я сказал, оставьте нас, Карл! — в голосе графа зазвучала сталь.
Лопоухий вздрогнул, вытянулся в струнку, щелкнул каблуками, выкинув правой рукой «зигу», и удалился. Я стоял и мялся в пороге, заискивающе лыбился, нагнав на свой растерянный вид восхищение от окружающей обстановки, от патефона с золотистой трубой, и от прочих старинных ваз, что сияли витиеватыми орнаментами по углам просторной комнаты.
Вот гад! Ну, точно уже успел обчистить наши музеи. Приглянувшимися экспонатами украсил свой кабинет. Сидит, как во дворце. Если бы не стопка грампластинок возле патефона и не телефонный аппарат на столе, то казалось, что я попал в век эдак семнадцатый-восемнадцатый.
— Герр Волков, — кивнул граф прищурившись, будто пытался проникнуть в мою душу взглядом. — Проходите, садитесь.
— Спасибо, герр граф, — ответил я по-немецки и засеменил к стулу с бархатным сиденьем, который стоял напротив стола.
Сел, ссутулится, обхватил колени руками и, снова натянув на морду дурацкую лыбу, проговорил:
— Для меня большая честь познакомиться с вами лично.
— Хм-м, — фриц вскинул аккуратно подстриженную бровь. — А вы раньше слышали обо мне?
— Ну как же? — всплеснул я руками. — Насколько я понял, вы тот самый человек, который занимается спасением культурных ценностей, вывозя их из варварских стран.
— Вы считаете свою страну варварской? — он продолжал испытывающе на меня смотреть.
— Скажем так, я не совсем считаю эту страну своей. Нет, я ее гражданин, но советские люди не вправе выбирать себе государство. Эмиграция у нас запрещена. И мысли о Родине отца, о Великой Германии, все эти годы жили лишь у меня в мечтах.
— Как вы очутились в Пскове? С какой целью сюда прибыли?
— Случайно, еще до начала войны. У меня была возможность эвакуироваться с беженцами, но я предпочел остаться на «новой Земле» третьего Рейха. Моего отца, чистокровного немца расстреляли коммунисты. Мне пришлось даже взять русскую фамилию.
Я продолжал накидывать заученную легенду, перемежая монолог короткими вздохами для правдоподобности.
В кабинет постучали. Дверь приоткрылась и на пороге показалась цаца в военной форме с серебристым подносом в руках:
— Разрешите, герр граф?
— Входи, Марта, — кивнул аристократ.
Цаца прошла, постукивая каблуками и потряхивая в такт шагам выпирающими из-под форменного жакета грудями.
— Ваш кофе, — чуть улыбнулась она, сдув с лица выбившийся пшеничный локон, и поставила поднос с замысловатой фарфоровой чашечкой под гжель и белоснежным платком под ней.
Девка удалилась, а граф отпил из чашки, прихватив ее двумя тонкими, но крепкими, как когти орла пальцами. Подул, скривив тонкие губы, и снова отпил.
— Расскажите еще о себе, — закинул ногу на ногу и откинулся в кресле с резной спинкой.
— Рассказывать особо нечего, — пожал я плечами. — Проработал всю жизнь учителем немецкого в Ленинграде.
— Жена, дети? — сканировал меня взглядом собеседник.
— Как-то не сложилось, — хохотнул я, и тут же наморщил лоб, будто переживал личную трагедию, что меня девки не любят.
— Врешь, собака! — неожиданно рявкнул граф и плеснул в меня горячим кофе.
Я лишь вжался в стул и не подумывал уворачиваться от выплеснутого напитка. Не кипяток конечно, но коричневая жижа чувствительно обожгла щеку и шею.
— Что вы делаете, господин граф? — воскликнул я. — Я говорю правду!
Взгляд его вдруг смягчился, так же неожиданно, как и он плеснул в меня кофе:
— Простите, герр Вольф. Или как мне вас лучше называть? Алекс Вольф, если вы Александр Волков?
— Да, пожалуй, — я нарочито морщился от боли, хотя легко мог ее стерпеть.
Да и увернуться я мог легко от этого выплеска. Но стервятник явно меня проверял. Нет ли у ботаника реакции бойца или разведчика.