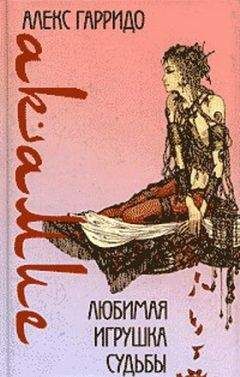Снова осмотрев царя, Эрдани обнаружил на его щеках румянец — пожалуй, слишком жаркий для здорового, но вполне приемлемый для того, кто должен бы уже умереть. Дыхание больного было ровным и глубоким, ровно и сильно билась жила на шее, когда лекарь прижал ее пальцами.
Удовлетворенный осмотром, Эрдани вышел, чтобы позаботиться о приготовлении целебных отваров и освежающих напитков, которые в большом количестве понадобятся царю, столько дней страдавшему от жажды.
Оставить больного без присмотра лекарь не опасался. Пока тонкие пальцы избранного Судьбой держат горячую от жара руку царя, нет причины беспокоиться за него.
Уже третий вечер поневоле слушал Ханис исступленные крики и завывания, которые здешние варвары гордо именуют пением. Голос, молодой и звонкий, почти на одной ноте проборматывал начало фразы — и смело бросался вверх, достигая высот немыслимых, бесконечно растягивая облюбованный слог, то гибко обвивая его, то дрожа на пределе связок.
От скуки Ханис порой прислушивался, пытаясь разобрать слова, сплавленные страстью певца в один долгий выдох и вопль. Сегодня уже удавалось понять:
…в гриву твою вплетены ветер и удача, пыль Судьбы на твоих копытах, лети же, широкогрудый, раздувая ноздри, уноси на спине мою радость и надежды брата…
…обличьем подобного жемчугу и нарджису, созданного из вздохов всех, кто его видел, унеси от погони, конь мой белый, унеси с моим сердцем, унеси, сбереги, белый иноходец…
Кинувшись под окно, Ханис задрал голову и закричал что было силы:
— Эртхиа! Эртхиа!
Пение оборвалось.
— Эртхиа! — снова позвал Ханис, со смехом и смущением принося в душе извинения другу за то, что не оценил в должной степени его певческий талант.
— Ханис! Друг! Я здесь! — возликовал в ответ Эртхиа.
— А он? — встревожился Ханис, сразу поняв причину заточения царевича.
— Свободен! — гордо отвечал Эртхиа, хотя в сердце его было больше надежды, чем уверенности.
Топот ног по лестнице и разъяренные крики стражников дали понять, что долго разговаривать им не придется. Но до верхней площадки еще надо было добраться! Ханис поторопился спросить:
— Что теперь с тобой будет?
— А не знаю! — беспечно отозвался царевич. — Что Судьбе угодно.
— О, Эртхиа… — Ханис хотел спросить царевича о его сестре, но не решился. Атхафанама, когда навестила Ханиса в памятную ночь побега Акамие, умоляла не раскрывать их тайны брату. Но как исполнить обещание, если с тех пор Ханис не видел царевны, и невозможно узнать, не случилось ли с ней беды…
— Эртхиа, Эртхиа! — окликнул Ханис, решившись.
Но, с грохотом распахнув дверь, в темницу ворвались стражники. Плеть обвилась, впиваясь в плоть. От боли у него потемнело в глазах. Едва устояв на ногах, он все же обернулся — и кинулся бы на стражников, но…
Ханис не хотел, чтобы девочка-царевна узнала, каково остаться одной, разлучиться навеки, на всю земную жизнь, со своей любовью — то, что Ханису довелось узнать и пережить.
Задержав дыхание, он сумел растворить боль и гнев в терпении и теперь смотрел на стражников спокойными светлыми глазами.
Те вдруг сникли под его взглядом, забыли, что привело их сюда, озадаченно смотрели на юношу, будто и не заметившего удара, валившего с ног взрослых мужчин. Тот, что держал плеть, с сомнением оглядел ее. Второй, с важностью крякнув, изложил:
— Кричать нельзя. Переговариваться нельзя. Что, первый день сидишь? За нарушение порядка плетью бьют. Если повторится — бьют до полусмерти. В третий раз… Так что смотри у меня…
Ханис кивнул.
Когда стражники вышли, он осторожно потрогал спину. Пальцы стали липкими. Он хотел рассмотреть их на свету, но, опомнившись, отдернул руку из луча: не омрачать ясного взгляда Аханы видом крови.
— Что с ней, сестра? — безнадежно спросил он. — Ты ее видишь? И где ты сама теперь, сестра?
Царь открыл глаза.
И долго лежал, вглядываясь в темноту, пытаясь понять, отчего проснулся среди ночи и отчего не горят светильники — царь не любил темноты, и не менее десятка их горело по ночам в его опочивальне.
Идругое удивило царя: он не только не мог вспомнить сон, разбудивший его, но и не помнил прошедшего дня. Он потерялся в темноте и забвении.
Темнота, со всеми населявшими ее чудовищами, вспучивалась, сгущалась, наваливалась на грудь, давила. Непроизвольно руки царя сжались в кулаки — и в правой он почувствовал чью-то руку, мягкие пальцы, доверчиво и сонно покоившиеся под его ладонью.
Царь торопливо ощупал тонкое запястье, далеко выступавшее из слишком широкого рукава. Рука была знакома пальцам царя, как его собственная. Приподнявшись на локте, царь другой рукой нашел собранные в косу волосы, мягче которых он не гладил, нащупал под бархатом кафтана тонкие, голубиные кости плеча.
Он был здесь наконец-то, драгоценный его мальчик, по которому истосковалась душа. С блаженными, легкими слезами воскресшей жизни царь опустил голову на его плечо. Акамие, радость, вздохнул, просыпаясь, и накрыл ладонью его щеку и висок. Прерывистый вздох вырвался из груди царя: бывает блаженство непомерное, почти непосильное душе. Бывает радость острее боли.
— Иди ко мне, — попросил царь.
Акамие осторожно высвободился и зашевелился, зашуршал одеждой. Царь ждал его так, как не ждал ни в одну из ночей, когда призывал на ложе для утоления страсти. Не было в этом ожидании жажды и муки распаленной плоти, но оно было невыносимо.
И когда прохладное, нежное тело робко прильнуло, осторожно вытянулось вдоль его тела, царь испытал странное чувство воссоединения, как будто неполное стало полным и разделенное — единым. И ощутил царь себя — живым, и вспомнил все, и прижал лоб Акамие к своей щеке, а руку его — к своим губам, и говорил ему тихие, медленные слова любви, благодарности и доверия, каких и не знал в жизни своей. И Акамие отвечал царю восторженными, пылкими словами любви, прощения и преданности.
И когда их души насытились радостью, они снова уснули, не размыкая объятий, и даже во сне царь блаженно ощущал невеликую тяжесть головы возлюбленного на своем плече.
Когда царь проснулся, Акамие лежал чуть отстранясь, откинув голову между подушек, и только рука его, легонькая, лежала на груди царя, слева, оберегая любимое сердце. Царь приподнялся, поцеловал Акамие под закинутым подбородком, между ключиц, сдув выбившуюся прядь, поцеловал возле уха. Мальчик потянулся, раскидывая руки со сжатыми кулачками, выгнулся дугой. Улыбнулся и открыл глаза.
Нежно и внимательно смотрел Акамие на царя. И царь видел в его глазах теперь не страх и покорность, а такую бесстрашную преданность, что сердце сжималось.
— Почему на тебе была одежда всадника?
Акамие опустил глаза.
Царю показалось, что он понял: мальчик пытался бежать, чтобы спастись. Закрыв ему рот ладонью, царь покачал головой.
— Не хочу знать. Ты прощен. И горе тому, кто мне напомнит о твоем проступке.
Акамие взглянул растерянно — и не решился спорить. Как объяснить то, что случилось, и чтобы царь поверил? Просто поцеловал руку повелителя. Считая, что он виновен, царь простил ему такое, за что кожу сдирали с иных и приколачивали вместе с волосами в саду ночной половины.
Чего больше желать? Виданы ли цари с мягким сердцем? Прощают ли измену и бегство тем, кто под покрывалом? Если и бывало такое, о том никто не знает, а узнает — не поверит.
Акамие, втайне улыбаясь, прижал ладонь царя к своей щеке. Улыбался он своей невиновности и тому, что узнал любовь царя и что ей нет меры. А вины за собой он не знал, потому что не помнил уже, что сначала хотел бежать от смерти, а не искать спасения повелителю. И не помнил, в щедрости счастливого сердца, как боялся и ненавидел царя. Так же, как он забыл о зависти и нелюбви к Эртхиа, когда царевич привел ему коня и назвал братом.
И теперь, при воспоминании об Эртхиа, тревога нарушила безмятежную негу, в которой пребывал Акамие. Но спросить царя о его младшем сыне Акамие неосмелился, чтобы не бросить на Эртхиа и тени подозрения. И сразу, сообразив, обрадовался, что не спросил: царь ведь еще не мог знать об этом деле.
Акамие, сдержанно потянувшись, прильнул к царю, обвил его руками, стал нежно целовать плечи и грудь. Царь усмехнулся, ласково потрепал его по затылку.
— Не сегодня, мой серебряный, еще не сегодня.
Акамие послушно опустил голову ему на грудь, они вздохнули одновременно и рассмеялись.
— Видеть тебя хочу. Здесь темно, а я так давно не видел светлого твоего лица. Света! — крикнул царь. — Эй, слуги, света!
Четверо рабов вбежали, не разгибая спин, в опочивальню и кинулись к окнам.
— Подождите, — остановил их встревоженный голос лекаря, вошедшего следом.
Акамие, вскрикнув, бросился лицом в подушку.