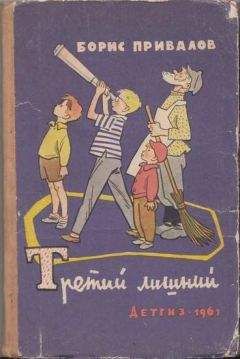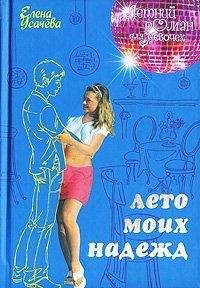дрожали руки, то ли это был специальный прием для обезвреживания слишком дотошных «клиентов». Формально он ничего не нарушал и показывал документ, а то, что мелкие и плохо пропечатанные машинописные буквы размывались в глазах, ещё надо было доказать.
— Вы позволите? — я протянул руку. — У вас всё дрожит, читать невозможно.
— Не положено! — рявкнул второй. — Из его рук читай!
— Я просто придержу, чтобы… — начал я.
— Не положено!
Милиционерам позади, кажется, было весело — наверное, они не каждый день видят, как их коллеги из более грозного ведомства попадают впросак. Правда, я не считал, что эти комитетчики куда-то попали — напротив, это я был в очень интересном положении, которое могло привести к чему угодно. Мать Родиона — а я не сомневался, что эти два визита связаны между собой — не имела возможности чего-нибудь подбросить нам в квартиру. Но вот эта сладкая парочка могла сделать что угодно — квартира у нас большая, что и где там находится, не знает, наверное, и Алла, так что было делом техники засунуть пачку меченых денег в одну из книг на полках в коридоре, а потом найти их.
В том, что эти ребята не уйдут просто так, я тоже не сомневался. Но я точно знал, что рано или поздно они войдут. И, скорее, сделают это, невзирая на любые мои уловки. Но мне нужно было тянуть время. И поэтому я упрямо сказал:
— Положено! В процессуальном кодексе обговаривается, что постановление об обыске должно быть предъявлено гражданину и, в случае необходимости, разъяснено ему, — я не знал, есть в этом кодексе такая статья, но надеялся на лучшее. — Кроме того, там есть пункт про то, что перед обыском гражданину дозволяется пригласить адвоката. У меня будет такая возможность?
Я понятия не имел, где я буду искать адвоката вечером в пятницу, но рассчитывал на то, что мне дадут позвонить, и я смогу набрать номер Михаила Сергеевича. Он тоже сейчас не помешает.
Глава 10. В темнице сырой
— Сюда смотреть! Глаза не закрывать и не отводить! Руки на столе держать!
Голос был громкий и противный и настолько властный, что не выполнить эти требования было невозможно. Но если положить скованные тяжелыми ржавыми кандалами руки на стол было легко, то вот смотреть на бьющий прямо в лицо морской прожектор, который по какому-то недоразумению назывался настольной лампой, и не закрывать при этом глаза или хотя бы не пытаться отвести взгляд, было решительно невозможно.
Я попытался объяснить это обладателю голоса и не преуспел. Рот не желал открываться, язык не ворочался, и я смог выдавить из себя всего лишь некое невнятное мычание. В ответ неведомая сила уронила меня на пол, который я так и не смог рассмотреть — слишком резким был переход со света в темноту, — а потом вздернула обратно и я снова оказался перед источником света.
— Смотреть!.. Не закрывать!!.. Не отводить!!!.. Держать!..
Я с усилием положил руки на стол и опять посмотрел вниз, туда, где должны были быть мои ноги. И снова оказался на полу, а потом опять взлетел вверх, к лампе.
— Смотреть!.. Не отводить!!!.. Держать!..
На этот раз я даже не смог выполнить несложное вроде упражнение с руками, которые тоже куда-то делись — или же перестали мне принадлежать, как перестала мне принадлежать возможность говорить. И снова последовали недолгое падение вниз и быстрый взлет обратно к свету.
— Смотреть!.. Держать!..
Я пытался выдавить хотя бы то самое мычание, но теперь у меня не выходило и оно. Я окончательно лишился всего, что делало меня человеком — за исключением слуха и глаз. Но глаза видели только свет лампы и темноту у пола, а слух различал всё меньше слов, которые произносились, кажется, в прежнем объеме.
Меня снова уронили и снова подняли.
— Смо!.. Держа!..
И я сдался. Я посмотрел прямо в самое яркое место и почувствовал, как этот мощный свет окончательно выжигает нервные окончания моих глаз и выпаривает жидкость из глазного яблока, которое съеживается и проваливается вглубь черепа. Свободного места там было много.
И когда я почувствовал боль от прикосновения изюма глазного яблока к голым нервам среднего уха, я проснулся.
***
Часы у меня забрали, но я чувствовал, что проснулся очень рано. Вместе с часами забрали и ремень; наверное, отняли бы и шнурки, но я удачно купил в магазине какие-то удобные мокасины, видимо, созданные советской обувной промышленностью совершенно случайно, а у них никаких шнурков не предполагалось. Нам позволили взять с собой смену белья и умывпринадлежности, а также по одной книге на брата и сестру — я выбрал «Историю КПСС» с тайной надеждой в понедельник всё-таки оказаться на экзамене.
Я лежал на железной кровати с панцирной сеткой, рядом с ней стояла железная тумбочка, на которой лежала пресловутая «История», а в углу у двери имело ведро, от которого немилосердно воняло моим же говном, несмотря на закрытую крышку. А, может, и благодаря ей. Дверь была массивной, обитой металлом, с небольшим окошком, которое сейчас было закрыто заслонкой, а кровать и тумбочка привинчены к полу.
Называлось это помещение камерой, и оно находилось где-то в подвалах страшной и ужасной Лубянки. Читать тут было было сложновато в любое время дня и ночи — тусклая лампочка под потолком почти не давала света, а расположенное под самым потолком зарешеченное окно предназначалось для чего угодно, только не для освещения этой конуры размером три на четыре метра. Впрочем, ночью читать запрещалось — а днем запрещалось на кровати лежать. Я мог только сидеть.
***
Валентин к нам не приехал; не явились и его подчиненные, которые, по идее, должны были за мной «приглядывать». Надежда на помощь умирала во мне на протяжении всего обыска, который продолжался часа два, но кавалерия из-за холмов так и не появилась. Нам с Аллой на собственных шкурках пришлось испытать всё то, через что проходят настоящие преступники.
Как я и предполагал, в одной из книг — я толком не запомнил, какой именно — пришедшие к нам ребята нашли внушительную сумму денег, тысяч двадцать или больше; все они были помечены специальной краской и ярко светились в свете фонарика, которым управлял один из оперативников. Деньги из бабушкиной шкатулки и из наших с Аллой карманов они тоже изъяли, но положили их в отдельный конверт; я был уверен, что больше их не увижу. Впрочем, в какой-то момент я вообще начал сомневаться, что когда-либо выйду на свободу —