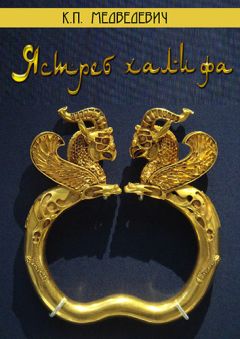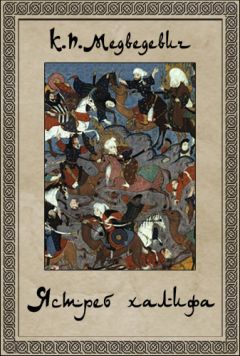-5-
Пятничная проповедь
Вега Фейсалы, 403 год аята, первый месяц лета
… - Повтори для него, — мрачно приказал Аммар.
Испуганно покосившись на самийа — нерегиль, меж тем, безмятежно продолжал устраиваться на подушках по правую руку от повелителя верующих, — Мухаммад ибн Саид аль-Тукуруни, сотник гвардии, повторил:
— Бени Умейя покинули свой лагерь. Они сняли все шатры, и все навесы, и даже опрокинули изгороди, за которыми держат лошадей. На одном из холмов они оставили воткнутым копье, острием вверх, и на острие мы нашли вот что.
И аль-Тукуруни почтительно протянул руку к двум небрежно свернутым листам, измятым и продырявленным в середине. Справа лежал мансури, лист бумаги самого большого размера, которую можно было только найти в халифате. Именно на такой бумаге полагалось писать повелителю верующих. Слева на ковре топорщился листок поменьше — и по нему тоже шла надпись уставным почерком умейядов, угловатым, древним, с красными, как капельки крови, значками гласных букв над черной строкой вязи.
— А это — тебе, Тарик, — кивком указал Аммар на листок.
Нерегиль, сердитый и снулый, кивнул, продолжая кутаться в джуббу. Утренняя зевота раздирала ему рот, и самийа злился от этого еще больше, то и дело прикрывая рот ладонями. Аммар про себя подивился: надвигался летний зной, скоро придется надеть накидки самого тонкого хлопка, — а ему, поди ж ты, зябко.
Озабоченно покачав головой, халиф поднял с ковра послание, которое Абду-аль-Вахид ибн Омар ибн Имран ибн Сулейман, нынешний глава рода Умейя, оставил для своего повелителя в предательски покинутом лагере на острие копья, обещавшего войну и мятеж.
Пробежав глазами послание, Аммар оглядел собравшихся в его шатре военачальников и сказал:
— Умейяды вынули головы из ошейника покорности, вышли из круга равновесия и поставили ногу в круг смуты.
Люди начали перешептываться и кивать. Мятеж Бени Умейя был делом времени — это было понятно и хромому ослу. Старший сын убитого нерегилем Омара ибн Имрана зря бы носил черные одежды Умейядов, если бы не решился отомстить за гибель отца. Самый могущественный клан халифата отозвал свои войска — пять тысяч тяжелой конницы. Воины Умейядов в кольчугах под фиолетово-золотыми бурутами, верхом на чистокровных гнедых конях, злых настолько, что их взнуздывали с намордниками, сейчас уходили на северо-запад, в родовые земли клана. Потомки сына Али отказывались от нового похода в джунгарские степи — и отказывались держать руку халифа верующих.
Аммар, меж тем, снова кивнул нерегилю:
— Прочти, раз писано тебе.
Тот пожал плечами, скривился и, далеко потянувшись рукой из-за Аммаровой спины, подхватил с ковра мятый листок со своим именем на оборотной стороне. Развернув письмо обеими руками, Тарик уперся взглядом в написанное. В проникавшем через шелковые полотнища шатра ярком утреннем свете — ковры завернули вверх и подхватили толстыми синими шелковыми шнурами, — тонкая бумага просвечивала. Она, видно, была скверной по качеству, да и само послание было писано до оскорбительного небрежно: чернила просочились сквозь бумагу, и испод листа, обращенный к собранию военачальников, пятнали отвратительные черные кляксы. Судя по линиям черных точек на обороте, письмо к Тарику содержало лишь две строчки.
Нерегиль застыл с высоко, на уровень глаз поднятым листом бумаги. Не все и не сразу поняли, что происходит что-то не то: зажатый в пальцах самийа листок мелко задрожал, а Тарик задышал вдруг медленно и глубоко. Аммар, знакомый с приступами ярости самийа не понаслышке, тихо приказал:
— Дай сюда.
Не переставая глубоко дышать — вдох-выдох, это он так успокаивается — Тарик передал своему халифу послание Умейядов.
Оно содержало один стихотворный бейт:
— Не домогайся достоинств; поверь, не в них превосходство.
Ты сыт и одет к тому же. Зачем тебе благородство?
Аммар перевел вгляд на нерегиля. Тот уже почти овладел собой, только губы еще кривила гневная судорога. Но дышал самийа уже спокойнее.
— Что предлагаешь делать? — резко, как хлопнув в ладоши, спросил его Аммар.
Тарик встряхнул головой и сбросил с себя остатки туманящего глаза морока ярости:
— Поступать разумно. Решать задачи в порядке поступления. Сначала мы… принудим к миру джунгар. Потом… Умейя.
Последние слова были сказаны, однако, таким голосом, что потом, заслышав в речах Тарика этот стальной звон, люди говорили: "Если птицы летят хвостами вперед — быть урагану".
В третий джунгарский поход ашшариты выступили тридцатитысячной конной армией.
Весть о том, что "северный царь" идет войной на улусы сыновей Эсен-хана, пронеслась по степи как пожар. Даже самые храбрые из джунгарских племен, ойраты и урууты, снялись с места и погнали коней и скот к Хангаю, видно, полагая, что в ущельях между гранитными отрогами, заросшими лиственницей, они смогут скрыться от заклятых страшными чарами ашшаритских мечей.
Впрочем, многие надеялись дать отпор северянам: Эсен-хан пал в бою, но у него имелось четверо взрослых сыновей — Араган, славный хитроумием и умением ладить с соседями, Сенгэ-храбрец, а еще Дабачи и Рабдан — любимцы отца, его правая рука и левая рука, его верные цепные псы, которых кормили человеческим мясом у порога юрты кагана:
"Лбы их из бронзы,
А морды — стальные долота.
Шило — язык их,
А сердце — железное.
Плетью им служат мечи.
В пищу довольно росы им.
Ездят на ветрах верхом.
Мясо людское — походный им харч.
Мясо людское в дни сечи едят."
Так пели об их подвигах джунгарские сказители.
Не ладившие между собой при жизни отца, Дабачи и Рабдан решили объединить свои тумены и достойно встретить войско северянина и его беломордого прихвостня. Пятидесятитысячное войско джунгар готовилось к бою у Красного тальника. Рассказывают, что однажды на рассвете в ставку Дабачи и Рабдана приехал Цэван-нойон, хорчин Арагана. Он завел такие речи:
— Давайте заманим северян в горные ущелья. Пока мы будем отступать, мы завлечем их в засаду, а кони наши тем временем откормятся после голодной весны.
Однако Дабачи лишь рассмеялся, как всегда он смеялся, сидя под своим знаменем-тугом с человеческим черепом на навершии:
— С нами духи предков и Тенгри! Мы загребем их в полы халатов как скотский навоз!
Рабдан же молчал, как молчал он уже несколько лун, прошедших с ночи смерти отца. И вдруг лицо его свелось судорогой, глаза закатились, а из груди вырвался хрип. Все пали на свои лица — дух, сошедший на Рабдана, мог оказаться гневливым и мстительным, и не следовало без нужды заглядывать ему в лицо. В тишине юрты Рабдан снова захрипел — и вдруг заговорил скрежещущим голосом нижнего мира:
— Так и есть! Эта баба Араган разглагольствует так из страха. Не иначе, хитрый байбак желает договориться с ашурутами за нашей спиной! Из трусости и предательства выносит такое предложение баба Араган, который не выходил из дома даже на расстояние отхожего места для беременной бабы! После того, как мы сдерем кожу с царя ашурутов и насадим на копье голову его цепного нелюдя, твой хозяин будет следующим! Пусть приготовит острый кол для себя, чтобы нам не пришлось долго рыскать в поисках удобной палки, на которую мы натянем его парой быков!
С такими словами Рабдана Цэван-нойон отбыл в ставку Арагана.
А еще через пять дней ашшариты прошли пески Харахалчжин-эста и вступили в хангайские степи. Травы становились все гуще и гуще, горный хребет синел на горизонте, в ложбинах между холмами стали попадаться заросли ивняка и ильма, а потом и тополиные рощицы. Припудренные желтоватой пылью деревья трепал ветер, налетавший то из песков, то с поросших могучими деревьями склонов Хангая.
Кочевники встретили их во всеоружии: многочисленные разъезды дозорных сменили летучие отряды всадников на худых лошаденках в рваных, торчащих ватой халатах, — видимо, пленные из покоренных племен, кераитов или меркитов. Их быстро отогнали и стали разбивать лагерь — ряды шатров следовало окружить рвом и частоколом из привезенных на верблюдах кольев.
Утром к ограде лагеря подъехало джунгарское посольство. Ханид-толмач, подросший и даже обзаведшийся отдельными волосками на щеках и подбородке, переводил Аммару, Тарику и стоявшим рядом сипахсаларам:[7]
— Кочевники называют нас трусами, о повелитель! — парнишка робко оглянулся на халифа правоверных, но Аммар, стоявший на земляном валу рядом с ним, милостиво и ободряюще кивнул — мол, не страшись, за чужие слова не накажу.
— И они говорят, что мы прячемся, как суслики по норам, но они нас все равно из нор выгонят, как огонь выгоняет спящих байбаков.
— Как изящно сказано, — усмехнулся Тарик. — Будет жаль, если изысканные цветы джунгарской словесности окажутся навеки утрачены. Хорошо бы пару местных поэтов привезти в Аш-Шарийа — в клетке, для развлечения. Согласен, Аммар?