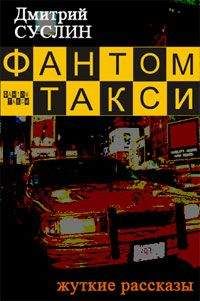— С Ломинадзе у меня не ладилось, Раф, — признался Авраамий Павлович.
Хитарову нравилось, что Завенягин зовет его Рафом.
— Могу тебя повеселить, Авраамий. У меня уже месяца три лежит забавный донос на Придорогина. Ухохочешься, заходи в горком, дам почитать.
— Наверно, по поводу того, что он бегал по ночному городу в кальсонах?
— Да, но какие детали, Авраамий! Шедевр юмора!
— А как ты относишься, Раф, к смещению Ягоды?
— Не знаю, что и сказать. Какая разница — Ягода или Ежов? Генрих Ягода меня уважал, мы с ним были на равных. Ежов передо мной заискивает, Авраамий.
— Он перед всеми заискивает, мягко стелет.
— У него своя епархия, у нас — другая.
С тополей на площади Заводоуправления падали первые пожелтевшие листья. Хитаров и Завенягин шли в горкомовскую столовую, время — к обеду.
— Ты бы, Раф, донос на Придорогина дал прочитать самому Придорогину.
— Разумеется, дам, Авраамий, как только он поправится.
Придорогина в ту ночь, когда он выбросился из окна, поймали и скрутили с трудом, отвезли в психбольницу. Алкоголиком начальник НКВД не был, выпивал он помногу, но редко: три-четыре раза в год. И никогда не опохмелялся, пьянчужек не терпел, тяги к спиртному у него не было. Если бы не существовало праздников, застолий, он бы вообще не брал в рот эту пакость. Придорогина мучило в больнице больше всего то, что он великолепно все помнил. Разумеется, что признаться в этом было просто невозможно. Врач мягко спрашивал:
— Расскажите, Александр Николаевич, что запомнили с того вечера?
— Помню, пришел допросить гражданку Ефросинью Меркульеву, буфетчицу горкомовскую. Дед ее арестован за схорон пулемета, за покушение на бригадмильцев. А она, значится, предложила выпить. И наверно, подсыпала отравы, стерва. Съел я полкролика, дальше ничего не помню. А выпил я по оперативным соображениям, дабы войти в доверие.
Точно так же отвечал Придорогин и на вопросы Пушкова, Груздева, Степанова. Про баню не упоминал, ну и про все остальное. Начальника милиции тревожили свои подчиненные. Они не задавали вопросы, а хитро вели допрос:
— Вы абсолютно уверены, Сан Николаич, что дверь в избу вам открыла Фрося? Что именно Фрося угощала вас самогоном? Что вы ели кролика?
— Вы што, охренели? — рассвирепел Придорогин.
Доктор полагал, что начальник НКВД выздоровел, и ничего серьезного с ним якобы не было. Просто — кратковременный алкогольный психоз, перегрузки на работе, нервное истощение. Врач разрешил работникам НКВД говорить пациенту всю правду. На всю правду соратники не решались. Пушков опять вернулся к первому вопросу:
— Простите нас, Сан Николаич, но это очень важно: кто открыл вам дверь, когда вы постучались в дом Меркульевых? Вы были трезвы, когда входили в избу? Может быть, рюмку уже где-то выпили?
У Придорогина задергалось веко:
— Вы што, ребята? Клянусь, я был тверезым. Наведите справки у Голубицкого, у паромщика. Две девочки меня видели: Груня Ермошкина и Верочка Телегина, они меня и провели к дому Меркульевых. Пацаны там стреляли из ракетницы, да я их не видел. Собака лаяла.
Степанов помог Пушкову преодолеть барьер неловкости:
— Сан Николаич, не могла вам дверь открыть Ефросинья Меркульева, ее не было в городе. Она в это время ехала в поезде, в Москву. И не одна ехала, а в мягком вагоне, в одном купе с прокурором Сорониным. У Фроськи стопроцентное алиби.
— Какое алиби? Не может быть такого.
— Представьте: Фроська Меркульева находилась в то время, когда вы стучались в дом, за полторы тысячи километров от места происшествия. Хитаров отпустил девку в Москву, к Порошину.
— Не поверю, вы разыгрываете меня, шутите.
— Мы можем устроить вам встречу с прокурором, есть и другие очевидцы, свидетели.
У Придорогина побелели уши, глаза начали стекленеть. Врач выпроводил посетителей:
— Алкогольный токсикоз оборачивается иногда необратимыми мозговыми изменениями.
Но через неделю Придорогин выписался из больницы, с месяц ходил на работу тихий, оглядчивый. Он ждал оргвыводов, снятия с должности, вызова в горком, в Челябинск. К удивлению, его никуда не вызывали, не приглашали, не требовали объяснений. Тревожна неизвестность. Неужели никто не доложил выше о происшествии? Такого ведь быть не может. Врач навестил Придорогина дважды, нашел его здоровье удовлетворительным, но посоветовал:
— Экстремальных ситуаций избегайте. В тяжелых акциях не участвуйте.
— В каких именно?
— Как это у вас называется — ВМН, высшая мера наказания.
— В расстрелах не участвовать?
— Не желательно.
— Расстрелыциков у меня хватает, я сам никогда и не участвую в этом, — успокоил доктора Придорогин. — У меня мало сыщиков хороших, следователей, юристов.
Ночное происшествие в доме Меркульевых раскроило, разделило Придорогина, его сознание на несколько сфер — несоединимых, но болезненно соприкасающихся. В подвале памяти постоянно жили, двигались и звучали необъяснимые действа, двойники, мучительные вопросы. Что же произошло? В нечистую силу, колдовство и прочую ахинею нормальный человек не поверит. А если у Фроськи есть сестра-близнец? Одна Фроська уехала в Москву, другая осталась дома, подбросила в самогон какой-нибудь дурман. Итак, одна загадка гипотетически решена! Но откуда появилась в постели мертвая старуха? По заключениям науки трупы передвигаться не могут. А если загримировать живую штрундю под мертвую? Не так уж и трудно. А запах? Тоже можно сыскать дряни и обмазаться. Необъяснимость постепенно исчезала, Придорогин снова обретал жесткость и уверенность. На расследование, правда, не решился. И встречаться с вернувшейся из Москвы Фроськой не хотел. А приехавший Порошин часто напоминал о ней:
— Поклон вам от моей Фроси.
О сидящем в тюрьме деде Меркульеве Порошин у Придорогина никогда не спрашивал. На одном из активов, где обсуждались итоги стахановского движения, Хитаров сказал начальнику НКВД:
— Зайди, пожалуйста, ты мне нужен тет-а-тет.
Придорогин никогда не слышал словосочетания «тет-а-тет» и разгадывать его не стал. И так было ясно: по-армянски, наверно, означает — уважаемый или старейшина. Было бы ведь странно, если бы Хитаров не употреблял армянских словечек. Придорогину выраженьице понравилось, и он сам стал употреблять его:
— Алло! Соронин? Здравствуйте, тет-а-тет! Как там твоя прокуратура? Заходи ко мне вечерком, дело есть.
Хитаров извлек из ящика секретарского стола письмо, передал его Придорогину:
— Прочитай писульку, Сан Николаич, нам она ни к чему. Начальник НКВД сунул переданный документ в планшет, не взглянув на него даже мельком. Содержание таких бумажек угадать было легко. Письмо направлено в горком партии, передано в милицию. Значит, честный коммунист докладывает о замеченном вредительстве. Многие люди обращаются с этими вопросами в партийные органы. Эх, развели мы бюрократию, раздули управленческий аппарат. Райкомы, горкомы партии давно можно было бы объединить с органами НКВД. Одни ведь задачи решаем, один воз тащим. Может быть, смещение Ягоды и назначение на его место Ежова является первым шагом к такому объединению?
Придорогина беспокоила весть об утверждении нового наркома внутренних дел. Александр Николаевич не знал Ежова, а слухи о нем ходили разные. Генрих Ягода доверял своим кадрам, не вмешивался в мелочи, не верил доносам на работников НКВД. Если на кого-то часто поступали жалобы, он переводил работника милиции в другой район. Первым начальником НКВД в Магнитке был Владимир Прокопьевич Юдин. Затем — Шатилов, Зильвиндер, Берг.
Жан Христианович Берг знал Придорогина по гражданской войне, изредка звонил в Магнитку, давал мудрые советы, у него были хорошие связи с Москвой, высоким начальством. И после смещения Ягоды его звонок оградил Придорогина от неприятностей. Александр Николаевич дал указание выпустить в горотделе стенгазету с портретом Генриха Ягоды, сам настрочил передовицу с благодарностью бывшему наркому. Закончил статью Придорогин словами о том, что и на новом посту Генрих Ягода проявит себя верным сыном партии. Секретарша отвлекла Придорогина от стилистических мучений:
— Сан Николаич, на проводе Жан Христианович, соединяю.
— Алло, Жан, здравствуй!
— Здравствуй, Сан.
— Как дела, Христианыч?
— Как сажа бела. А ты чем занят?
— Пишу статью о Ягоде, тет-а-тет.
— Воздержись, Сан.
— Почему, Христианыч?
— Он в тире. Да, он в тире, Сан.
Тиром в магнитогорском НКВД называли бетонную камеру в подвале, где расстреливали одиночек или небольшие группы преступников, приговоренных к ВМН. Выстрелы ощущались через стены и в КПЗ, и в комнатах следователей, и на дворе. Когда кто-нибудь спрашивал о подозрительных звуках, ответ был один:
— Стреляют в тире, у нас в подвале — тир.
Придорогин не мог представить Генриха Ягоду в тире. Руки у начальника НКВД затряслись мелкой дрожью. Он изорвал передовицу: