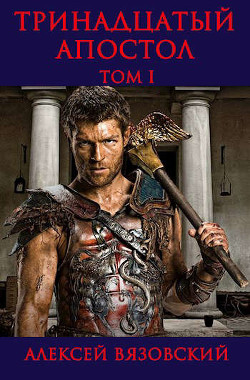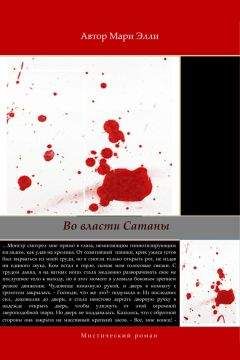“Хоттабыч” пыхтит, но по существу ему возразить нечего. Я примиряюще поднимаю руки
— Но время прошло. И наверное, можно отменить наказание, вернув прежние щадящие налоги? — обращаюсь я к префекту — Наш Принцепс Тиберий недавно изрек очень мудрую мысль по поводу налогов в провинциях: “Хороший пастырь стрижет овец, а не обдирает их” — “Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere”. Долг римского гражданина исполнить указание Принцепса.
Ну, же, префект… прояви хоть раз благоразумие, не жадничай! У тебя же под ногами горы золота. Понтий Пилат молчит несколько секунд, потом нехотя произносит
— Согласен. Но взамен вы должны пообещать, что Храм прекратит подстрекать зилотов и науськивать их на римлян.
— Справедливое требование, достопочтенные иудеи — поддерживаю я Пилата — иначе согласитесь: какой смысл снижать налоги, если после их очередного бунта римским властям придется в очередной раз захватывать, а потом и восстанавливать Иерусалим?
“Хоттабыч” недовольно сопит, но многие члены Синедриона кивают после моих слов. Подозреваю, что эти “патриоты” своими выходками достали не одних только римлян. Пилат очень внимательно следит за реакцией первосвященников, и видимо в уме уже расставляет галочки, отбирая кандидатов на вылет. И это правильно. Тот, кто не готов уступить даже в малом, не готов и к дальнейшему сотрудничеству. Особо упертых фарисеев надо гнать из Синедриона поганой метлой.
— Итак “катехон”… - снова возвращаю я внимание иудеев в нужное мне русло — в переводе с греческого это означает “удерживающий”. Но сами греческие мудрецы вкладывают в это понятие гораздо более глубокий смысл. Это указание на некую могущественную силу, присутствие которой, не позволяет князю тьмы Сатане — или по-гречески дьяволу — прийти в мир, или хотя бы проявиться в во всю силу. Сейчас таким “катехоном” служит Рим. И если исчезнет Рим, то на всех землях, подвластных ему, воцарится хаос, Иудея не будет исключением.
Хоттабыч снова пытается что-то вякнуть, но я властным жестом останавливаю его и повышаю голос
—…Не будет! Сначала вы обязательно передеретесь с ближайшими соседями. Не спорьте! Передеретесь. Зная надменный и склочный характер ваших первосвященников, никто добровольно не захочет объединения с вами — ни Самария, ни Галилея, ни Петрея. И что — вы захватите их силой? А как? Боеспособной армии у вас нет и не будет, потому что не в еврейской традиции беспрекословное подчинение командиру. Ваши зелоты, которые считают себя воинами Бога — это необученный сброд, который разбежится и спрячется в своих горах при первом же серьезном столкновении с нормальной армией. И такая армия обязательно придет на землю Иудеи. Вспомните историю и выберете сами, в какой плен вы отправитесь в следующий раз: в египетский, сирийский или сразу в парфянский.
— Парфяне не враги Иудее!
—Конечно — насмешливо киваю я — ровно до тех пор, пока существует сильный Рим. И его легионы стоят на границе в Сирии.
Первосвященники снова недовольно сопят, но возражать не торопятся. Потому что по существу возразить им опять-таки нечего. Уж кто, кто, а парфяне клювом щелкать не будут и быстро приберут к рукам беззащитную Иудею. Разговоры о добрососедстве в миг обернутся ее завоеванием. Ибо парфяне военную слабость презирают — они понимают и ценят только силу. И по-настоящему достойный противник у Парфии только один — Рим. Но Тиберий, следуя заветам Октавиана, предпочитает не испытывать судьбу и не воевать с ней. Еще со времен Августа оба противника строят козни друг другу исключительно руками союзников. Холодная война — вот лучшее определение, характеризующее нынешние отношения двух великих соперничающих держав.
— Примас, там пришли ученики Мессии — прерывает мою пикировку с “Хаттабычем” Гней
— Пригласи их. Им тоже нужно поучаствовать в нашем разговоре.
Среди первосвященников поднимается недовольный ропот. Наивные… Они правда думали, что после случившегося в Храме все останется по-старому?! Вот уж нет. Религиозно — идеологическая вольница закончилась.
В зал заходят апостолы. Впереди, как всегда, Петр — он самый решительный и самый уверенный изо всех. За его спиной сплоченной группой стоят Андрей, Иоанн, Левий Матфей и младший Иаков — тот, который Алфеев. А Иакова Заведеева — брата Иоанна — и Фомы с ними сегодня нет, видимо их отправили в Галилею, чтобы вернуть в Иерусалим Марию и остальных апостолов.
Я, улыбаясь, подхожу к ним, по очереди тепло обнимаю каждого. Делаю приглашающий жест, показывая на пустые кресла:
— Здравствуйте, братья! Присоединяйтесь к нам, садитесь поудобнее.
— Мытари… — презрительно морщится один из первосвященников, узнав среди апостолов Матфея и Иакова младшего — А остальные кто?
— Рыбаки. А я рядовой легионер. А под окнами на площади перед Храмом стоят простые горожане и паломники. Торговцы и храмовые стражники. И что?!!! Разве это мешает всем нам верить в единого Бога? И наш Мессия тоже был плотником, хоть и из рода Давидова. А кому станут нужны служители Храма и первосвященники, если мы — простые верующие в Отца нашего Небесного — отвернемся от вас, как вы сейчас воротите нос от любимых учеников его Мессии?
Держу долгую паузу, медленно обводя взглядом членов Синедриона, а потом смиренно заканчиваю свой пассаж
— Но если не будет учителей в Храме, тогда кто прочтет людям текст древнего Танаха? Кто им расскажет о пророчествах Исайи и Захарии? А премудрости Соломона — кто тогда их будет толковать? Так что мы с вами все связаны между собой. И каждый из нас славит Бога так, как велит ему Завет, сердце и совесть. Вам не нравятся эти назаретяне, вы ненавидите римлян, недолюбливаете самаритян, презираете греков за их “распутный” образ жизни. Но разве не сказано в Торе: “Люби пришельца, ибо пришельцами вы были в Египетской стране”? Почему же вы раз за разом нарушаете заповеди, которым сами учите народ? Призываете братьев по вере к смирению, а сами полны гнева и гордыни? В чем тогда вообще смысл вашего служения Богу?
Первосвященникам явно неуютно от моих слов. Некоторые краснеют, другие отводят глаза. А еще неуютнее им под пристальным, просто замораживающим взглядом Пилата. Вот уж у кого теперь отличная возможность отыграться на Синедрионе за унизительную роль, которую они заставили его сыграть в судилище над Иешуа. И Пилат возможность отомстить точно не упустит.
— Префект, рассуди нас — обращаюсь я к нему, прикладывая кулак к груди — Скажи по совести: могут ли учить вере люди, сами не соблюдающие ее главные заповеди?
Пилат делает вид, что глубоко задумался, и прикрывает глаза. Но я стою близко к нему и прекрасно вижу, как блеснул торжеством его взгляд, и дрогнули в еле заметной усмешке тонкие губы.
—…Нет, конечно — произносит он, наконец — Мне с самого начала непонятно было решение Синедриона осудить на казнь Иешуа. Уже тогда я понял, что среди вас нет правды, как нет и единства. Но Каиафа и Анна все сделали для того, чтобы я, уважая обычаи и веру иудеев, не смог отказать им перед собравшимся на суд народом. Будет справедливо, если Синедрион покинут те первосвященники, кто ратовал за неправедную казнь Иешуа вслед за Анной и Каиафой.
— Но, Пилат — робко возражает кто-то — в нашем Синедрионе ведь есть и те, кто искренне заблуждался, а потом раскаялся. Разве не велел Мессия прощать всех раскаявшихся?
— Велел — с готовностью соглашаюсь я и снова перехватываю инициативу в разговоре — И узнать, искренним ли было это раскаяние, не составит труда.
Поворачиваюсь к Гнею
— Пусть солдаты Фламия принесут сюда Ковчег со скрижалями. Никто не посмеет лгать рядом с этой святыней.
Вот так: шах и мат, фарисеи! Судя по вытянувшимся лицам, первосвященники настолько уверовали в свою многовековую безнаказанность, что пока никак не могут привыкнуть к тому факту, что их иудейская святыня имеет еще одну божественную функцию — “детектора лжи”.
Под гробовое молчание первосвященников легионеры вносят в Зал тесаных камней Ковчег и вслед за ним специальный высокий стол, на котором он теперь стоит посреди Главного зала Храма. Замечаю на некоторых лицах страх — это говорит о том, что далеко не все здесь уверовали в Христа. И не все готовы признать это, прикоснувшись к Ковчегу. Ладно… в конце концов каждый человек имеет право на ошибки. Глядишь, и прозреет потом. Но в Синедрионе таким точно не место.