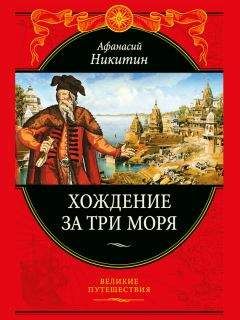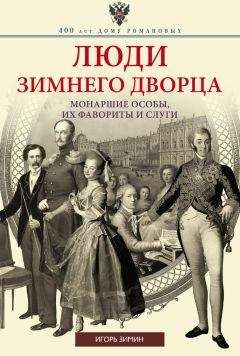Чуриле дважды повторять не пришлось. Расправил он плечи и, глубоко вздохнув, завел:
Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня…
Так, с песнями, они дождались баркаса, переправились на другую сторону реки, заночевали в Синих Вишнях, а утром наступил четверг, день вполне подходящий для путешествий. И поехали они на север по Донскому шляху, но не все, а только сотник Хайло с Чурилой и Свенельдом, а при них – ребе Хаим Рабинович и Алексашка сын Меншиков.
Суббота случилась на подходе к Зашибенику, но ребе сказал, что странствие можно продолжить, ибо свершается оно с благой целью. Конечно, это таки грех, но он лично заступится перед Господом за всех путников и уверен, что Бог Авраама, Исаака и Иакова не будет очень гневен – ну, может, вымочит их дождиком или пошлет какую-никакую мелкую болячку.
Господь и правда был милостив, и на пятый день они без всяких приключений добрались до Киева.
А княжью грамоту в сафьяновом футляре Хайло бросил в воду, когда переправлялись через Дон. И, чтобы не всплыла, сунул в футляр здоровый камень.
Стольный град бурлил. Работные люди в мастерских, приказчики в лавках, слуги с постоялых дворов, бабы-портомойки, извозчики, дворники, нищеброды – все обсуждали одно: новую веру. Какой она будет, никто не ведал, но было доподлинно известно, что в Киев прибыли волхвы из Рима и Мемфиса, а еще, кажется, еудейское священство, привезенное княжьими ратниками из Хазарии. Многие, увлекшись пересудами, бросили работу и свои обычные дела, шатались по Торжищу или сидели в кабаках Пьяного конца и Мусорного посада, пропивая последний грош и обсуждая новости. Обсуждения переходили в споры, а те – в драки, так что у тиунов приказа Благочиния забот прибавилось. То же творилось по всей Руси, в больших и малых градах, в деревнях и селах, хуторах, заимках и даже в далеких сибирских острогах, куда телеграф донес последние вести, не совсем понятные, но тревожные.
В Киеве, в центре всей грядущей катавасии, слухи кружились, словно воронье над падалью. Говорили, что зарубежные волхвы будут тягаться перед государем, дабы он выяснил, кто из них круче, вальяжней и ближе к богам. Говорили, что латыняне заставят поклоняться своему Иупитеру, который есть отцеубийца и развратник, а еще кровавому Мрасу, мужеложцу Ганьке и бабе Венус, что из всех шалав самая шалава и полная профурсетка. Говорили, что еудеи будут всех топить в Днепре, и кто не утопнет, тот и угоден их богам, а хладные трупы прочих объедят сомы да раки. Говорили, что из Мемфиса привезли невиданного зверя коркодилу, который и есть главный ехипетский бог, ненасытный людоед с огромными зубищами. Говорили, что волхвы Перуна и Велеса, Ярилы, Сварога и других отчих богов бегут в непролазные чащобы, опасаясь, что порубят их вместе со святыми идолами или сожгут на кострах. Но что бы ни говорили, о чем бы ни спорили, как ни дрались по кабакам, было ясно: какую веру ни возьми, будет она поганой, а налоги непременно возрастут. Иначе с каких шишей строить храмы, мурсалеи и пирпамиды?… Большаки из тайной партии утверждали, что введут особый побор на иноземное священство, а еще погонят народ возводить усыпальницы князю и боярам. Так что если прежде дышали через раз, то теперь и вовсе не вздохнешь, а кто вякнет, того ждут топор, пила и сибирские кедры.
Вскоре к этим интересным новостям добавились другие, еще более тревожные. Слух прошел, что серебряную куну сильно облегчат, а то и вовсе заменят римской деньгой из железа под названием дендрарий. Еще толковали, что все серебро и золото с Руси вывезут в Рим, а кто заначит хоть монетку, тому будут ноздри рвать, бить батогами и в рудники ссылать навечно. Услышав про такое, купцы стали прятать товар, а поселяне – копать ямы да схроны для зерна. Торжище враз оскудело, будто вся скотина сдохла, рыба повывелась, а груши с вишнями осыпались и сгнили. Правда, новорусские ходили птицей гоголем и выставляли в своих лавках бархат и парчу, зеркала веницейские, камни яхонты, фряжские вина, икру с балыком и прочую роскошь. Горевать им не было нужды – кто вел дела с Хазарией, мог полагаться на защиту кагана и полновесные хазарские тугрики.
Однако счета в Новеградском банке, а также в Тверском-Ямском, Первом Сибирском и других стали усыхать. Деньги куда-то утекали, частью в кубышки, а частью в иные края, превращаясь по дороге в талеры, шекели, пиастры и даже в польские злотые, в которых золота было столько, сколько мяса в постных щах. Цены на соль, пиво и хлеб взлетели, и за любым товаром, какого прежде было без счета, ломились толпой. При этом вдруг возникло изобилие оружия – в Киеве и больших городах винтарь продавали за четыре куны, а кое-кому он доставался за бесплатно. Только знай, где искать! Большаки собирали дружины, и с винтарями у них не было проблем. Появилось у них и другое: маузеры «консул», пулеметы «Юлий Цезарь» и безоткатные орудия «Сципион».
Власти не то чтобы спали, но дремали. Князь, по наущению Близняты, распустил на время Думу, объявив, что соберет лучших людей во дворце, дабы выслушать священства трех религий. Срок этот близился, и казалось, что надо сделать лишь одно, но мощное усилие: выбрать достойную веру и привести к ней подданных, распрощавшись с прежними богами. Пусть со смутой это случится, с неустроением и рыданием, но вскоре все изменится – отрыдает народ по старому, примет новое, улягутся глупые слухи, куна вес не потеряет, а налоги хоть и возрастут, но такая уж в мире тенденция, все дорожает потихоньку-полегоньку, в том числе и нужды государства. Так ли, иначе, но жизнь устаканится, и ляжет новая дорога прямиком в Европы сквозь пробитое окно, и потекут в то окошко купцы иноземные, и академики мудрые, и невесты-принцесски, и мастера-архитекторы, и парижские девки, что пляшут танец завлекательный канкан, и прочие полезные художества. Словом, все флаги будут в гости к нам!
Так рассуждала власть в лице государя Владимира и ближних бояр, склонявшихся к латынской вере. А вера и правда хороша – не то с какого бодуна главенствовать бы ей в Европах?
* * *
Ребе Хаим пел:
Как лань желает к потокам воды, так желает
душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому;
когда прийду и явлюсь пред лице Божие!
Слезы мои были для меня хлебом день и ночь,
когда говорили мне всякий день: «где Бог твой?»
Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что
я ходил в многолюдстве,
вступал с ними в дом Божий со гласом радости
и славословия празднующего сонма…
Нежана слушала пение, сидя в горнице у распахнутого окошка. Голос у ребе был звучный и сильный, даже удивительно, как вмещался этакий голосина в тщедушном теле Хаима. Пел он на неведомом Нежане языке, но очень чувствительно. Даже слеза пробирала.