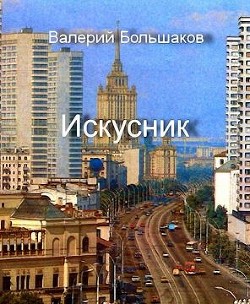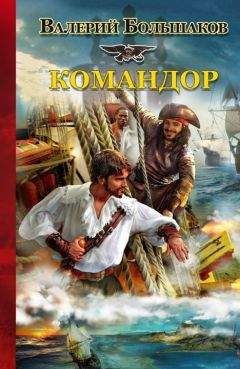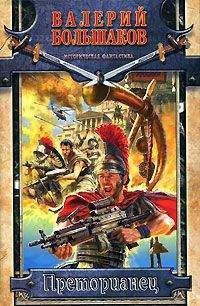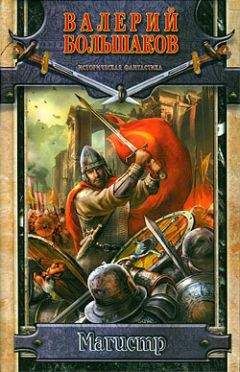Брежнев встретил меня в маленьком, уютном кабинетике, одетый по-домашнему – в тренировочные штаны с лампасами, да в «олимпийку». Мы с ним мило позлословили о лидерах, что рядятся в красные марксистские хламиды – Леонид Ильич прошелся по Мао, заодно и Фиделю досталось, а я посокрушался об Альенде – наивный, мол, доверяет всяким воякам! Да у тамошних генералов любимый спорт – это устраивать военные перевороты! Пронунсиаменто называются…
– Заносите! – нервно скомандовала Жанна Францевна. – Осторожней!
– Да мы и так… – пропыхтел бригадир.
Рабочие втащили статую «Колхозницы на отдыхе» и закрепили на постаменте. Бронзовая женщина весьма заметных статей сидела на пятках, одной рукой придерживая глечик, а другой поправляя косынку. Пустоватые глаза на полированном лице смотрели вбок, на мои картины, вывешенные в два ряда. Свет маленьких софитов падал удачно – краски играли в меру.
Подальше от «Колхозницы» висели новые полотна – «Волхв», «Старый солдат», портреты Софи, Лизаветки и Лиды.
Малышка, собравшаяся за меня замуж, баюкала любимую куклу. Нимфетка стояла на границе света и тени, протягивая телефонную трубку. Картина сквозила контрастами – тоненькая девчоночья фигурка закутана в халатик, но затянутый поясок подчеркивает округлость бедер, да и высокая грудь проступает сквозь ткань. А в улыбке, в глазах – то ли доверчивость, то ли искус. Пробудившаяся женственность.
Лиду я написал в остановленном движении – сидя на деревянном кресле, девушка гибко прогнулась, порываясь встать. И именно в этот момент ее будто окликнули – Лида поворачивает голову к зрителю, надменно задирая подбородочек, взмахивая ресницами, а в глазах, в чуть приподнятых бровках сквозит царственное недоумение, отвлекая взгляд от манящей ложбинки в разрезе платья.
– Антон! А, вот вы где… – Минц приблизилась стремительной поступью. – Эти скульпторы… Сорвут мероприятие! Ленивцы. Черепахи. Антон… – в голосе критикессы слабо завибрировала неуверенность. – Слухи ходят. Вы пишите Брежнева?
– Написал. Уже, – ответил я в той же отрывистой манере. – После Дня Победы отнесу.
– И молчали?! – всплеснула Жанна Францевна тонкими руками.
– Так о чем говорить? – пожал я плечами в манере проштрафившегося подростка, строптиво не признающего вины. – Мы чисто случайно пересеклись с ним в лесу. Я подвез Леонида Ильича – и все! А потом до меня его супруга дозвонилась, попросила написать портрет. Неофициально, приватно, по-семейному! Хороший дядька, в общем-то. Умный, добрый… В чем-то он силен, в чем-то слаб. Как и все мы. Вы только не обижайтесь на меня, Жанна Францевна! Я вообще никому не говорил о портрете. В идеалисты меня не запишешь, но и хвастаться случайным знакомством с Самим… – я помотал головой. – Знаете же, что скажут люди или что подумают!
– Ну, да… Ну, да… – закивала Минц, и резко вздохнула: – Ах, какой фурор! Был бы… Повесить вверху! Посередке! Суматоха сразу…
Она коротко рассмеялась.
– Ну, ладно! Держитесь, Антон. И учтите. Меня спросят… Я отвечу. Скажу: да. Написал! Самого!
– Вам можно, Жанна Францевна! – прыснул я.
– Заканчиваем! – заголосил администратор, скрытый за стендами и ширмами, перегородившими Манеж. – Заканчиваем! Через полчаса – открытие!
Не выдержав, я постучал костяшками пальцев по пышной груди «Колхозницы». Отдалось коротким гулким звоном.
Меня радовало мое же спокойствие. Я нисколько не волновался из-за выставки. Вон, у экспозиции напротив нервно вышагивает Глазунов, всё тужась сохранить баланс между классикой и совриском.
А я даже из-за Врублевского не тревожился. В душе росло мрачное удовлетворение – если Брут здесь, я ему устрою сафари!
Охоту на охотника…
Тихо заиграла музыка – мягкая, ненавязчивая мелодия сопровождала вернисаж, настраивая на вдумчивое созерцание. Послышались громкие голоса и смех – наверняка, иноземцы пожаловали.
– Илья! – высоко зазвучал голос критикессы.
Глазунов вздрогнул.
– «Старика» поправь! Чуть-чуть!
Я отвернулся. Встретился глазами с нарисованной Лидой, и подошел ближе. Мне показалось или я выписал глаза Светланы? Уж больно знакомый взгляд… Или отражение в «зеркале души»?
Только бы Брут не догадался, в ком «спряталась» его бывшая…
Прежние страхи занялись внутри, разгораясь адовым огнем – и опали, угасая, будто газета на растопку. Вспыхнула, прогорела, скручиваясь ломкими сажными фестонами, и лишь едкий дымок утягивается в трубу…
– Все будет хорошо, – тихо пообещал я, глядя в глаза на портрете. Вспомнил Варана, и губы дернулись в улыбке: – Отвечаю!
Глава 8
Арбат, 9 мая. Утро
Первым в квартире всегда просыпался дед Трофим. Он выпускал кота погулять с черного хода, и сам там задерживался – покурить да помедитировать в тишине. Негромкое покашливание и шарканье сношенных тапок еле улавливалось, зато смыв унитаза сотрясал коридор, пуская гулкое эхо. Сначала рушился водопад, потом выпевали трубы – басисто и хрипло урчали, хлюпали, подвывали, сипели на все лады… Никакого будильника не надо.
А в День Победы никто не озвучивал «прорыв дамбы» – дед Трофим разоспался. Часов до девяти не слыхать было ни голосов, ни шагов, а ровно в девять тетя Вера подняла крышку древней радиолы – и закрутилась пластинка. Негромкий, но приятный голос Бернеса выпевал «Темную ночь».
Меня пробрала нервная дрожь. А ведь, родись я в этом времени, как реципиент, моими первыми воспоминаниями стали бы не поездки к бабушке, а бомбежки, налеты «мессеров» на поезд с эвакуированными, скудный паек по хлебной карточке… Да, в сорок третьем мне бы пять лет исполнилось.
Я по-новому ощутил время. Не косвенно, когда гадаешь, глядя за окно, поздно или рано, а напрямую, всей кожей – тягучая река Хронос омывала меня, унося в будущее, но и прошлое рядом, оглянись – увидишь.
Ясное небо затянуто дымом пожарищ, а над изрытой, выжженной землей частят зарницы артобстрела и ворочается тяжкий гром. По тоскливой слякоти дорог метет, гуляет глупый ветер – играет оборванными проводами, что свисают с покосившегося столба, похожего на кладбищенский крест-длинномер. Порывы доносят пугающий запах чада – и страшный вой матерей, получивших «похоронки».
Я сел и зябко потер плечи.
От героев былых времен
Не осталось порой имен…
Лизаветка – поздний ребенок. Тетя Вера с сорок второго на фронте – тоненькая медсестричка с такими же косичками, что и на фото с выпускного. Уж как она вытаскивала раненых с поля боя…
Наверняка война оставила в ее памяти следы хорошего и доброго, но все эти промельки заляпаны грязью, потом да кровью.
А младший лейтенант Еровшин на передовой с сорок первого. Отступал от Бреста, ходил в разведку, тягал мычащих «языков» до своих. Чуть в плен не угодил, но сбежал по дороге – угнал полугусеничный «Ганомаг», прихватив заодно пузатого офицера, потомка тевтонских рыцарей…
Даже деду Трофиму есть, что вспомнить. Он же коренной ленинградец. В блокаду дежурил с девчонками-зенитчицами на крыше своего института, бомбы-зажигалки гасил. В ополчение записался, вот только воевать не смог – цинга все зубы съела, когда его вывезли на Большую землю…
…Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Я быстро оделся, резко вдевая руки в рукава, ноги в штанины.
Смешно и жалко выглядит моя «войнушка» с олигаршонком из будущего! Стыдно бояться!
– Больше не буду, – пробурчал я хмуро.
…нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
* * *