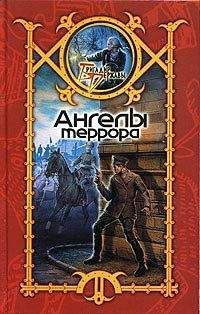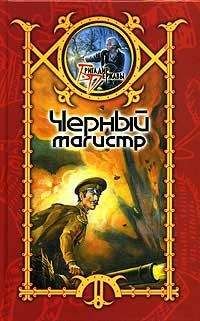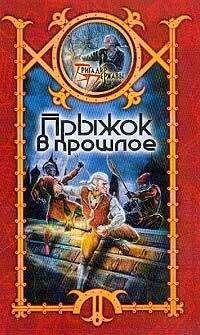Я вспомнил равнодушно-мертвящий взгляд «незлого» брата и невольно передернул плечами.
— Ладно, попытаюсь.
— Попытайся, проезжий человек, а уж я тебе по гроб жизни буду благодарен.
Поклонившись, Петруша вернулся к своим саням и начал разворачивать лошадей. Я тоже взял под уздцы своих кобылок и повернул их в обратную сторону. Вновь ехать в опасный стариков дом мне не хотелось, но придумать, как отговориться от лечения негодяя Ефимушки, я не мог. Пока я возился с разворотом, более ловкий в обращении с лошадьми крестьянин проехал мимо нас, а мы с девицей Раскиной отправились следом.
— Вот, а вы сомневались, что добрые мужички меня поймут и исправятся, — вдруг сказала мне в спину непротивленка вполне бодрым и противным от самоуверенности голосом. — Я открыла мужику глаза, он и вразумился… А вы даже спасибо не говорите, что я спасла вам жизнь…
У меня возникло почти непреодолимое желание выбросить девицу из экипажа и предоставить ей возможность нести в народ свет гуманного толстовского учения без моего участия. Только ложно понимаемое чувство ответственности удержало от этого неправедного порыва.
* * *
В негостеприимный дом мы вернулись около полуночи. Сельцо по-прежнему спало, не потревоженное ни нашим бегством, ни возвращением. За время дороги барышня Раскина несколько раз пыталась начать со мной поучительный разговор, но я отвечал односложно, вероятно, недобрым голосом, и она затихла. Лошади, утомленные бесконечными гонками и переездами, еле плелись, изредка поворачивая к нам головы с молчаливым лошадиным укором.
Лихая тройка бывших преследователей тихонько трусила впереди. Мороз все усиливался, и Татьяна Кирилловна как бы в вечность слала немногословные жалобы и скупые упреки за свои муки. У меня появилось чувство, что это я выгнал ее из теплых черноморских краев, чтобы заморозить в холодном Подмосковье.
У знакомых кривых ворот вновь повторилась та же сцена с открыванием и въездом, как и несколько часов назад, после чего мы опять оказались в вонючем тепле знакомой избы. Только теперь горница была освещена не лучинами, а мощной, десятилинейной керосиновой лампой, отчего признаки бедности видны совсем явственно. По комнате сновали две какие-то женщины, старая и молодая, на лавке лежал поверженный Ефим и тихо стонал.
Петр и старший из братьев прошли с нами в горницу, тухлый старичок с младшим сыном остались во дворе.
— Вот я тебе, Фимка-урыльник, дохтора привез! — сказал Петр, не очень заботясь скрыть пренебрежение в голосе.
Ефим застонал громко и жалобно, повернул в нашу сторону голову и, увидев меня, неожиданно завыл и попытался подальше отползти от такого спасителя.
— Я, ваше благородие, господин хороший, невиноватый, то все тятька сбаламутил, — прохрипел он, глядя остановившимися от ужаса глазами.
То, что Ефим мог говорить, меня как «лекаря» обнадежило, мне во время удара показалось, что я едва ли не прорвал ему пищевод.
Я попросил поднести к лавке керосиновую лампу и посветить так, чтобы я мог осмотреть горло больного. Никакой жалости к «Фимке-урыльнику» у меня не было, но и с души спала тяжесть, что я его все-таки не убил. Ефим, между тем, дополз до стены и вынужден был остановиться, прижавшись к ней спиной. Но меня он смотрел по-прежнему выпученными глазами, периодически рыская ими по комнате, как бы в надежде найти заступника и избавление.
— Ты, Фим, не боись, оне тебя больше бить не станут, — подал голос до сих пор молчавший средний брат, рослый малый с инфантильным выражением лица. — Оне дохтур!
При слабом свете лампы заглядывать в рот раненого было бесполезно, да и особой нужды в этом я не видел, не по моей это квалификации. Раз Ефим мог говорить, значит, ранение не было очень серьезным. Потому я просто охватил рукой его горло, чем опять привел душегуба в панический ужас. Он захрипел и принялся бессвязно читать «Отче наш». Не обращая на него внимания, я сосредоточился на своей руке, и парень затих. Особо я не напрягался — устал за день, да и объект меня не интересовал. В избе же воцарилась торжественная тишина, все присутствующие благоговейно наблюдали за знахарским лечением.
— Все, — сказал я, когда рука начала дрожать, — теперь ему полегчает!
— Ну, че, Фимка, полегчало? — тут же поинтересовался младший брат, как только я оставил горло больного в покое.
Ефиму, по-моему, стало легче не столько от лечения, сколько оттого, что я отошел в дальнюю часть избы. Он громко сглотнул застрявший в горле ком страха и утвердительно закивал головой.
— Ишь ты, — удивленно произнесла молодая баба с глупым, миловидным лицом, — ишь ты, как оно того…
На этом замечании интерес присутствующих к Фимке иссяк и сосредоточился на гостях. Девица Раскина к этому времени отогрелась и, возбужденная после недавних событий, решила взять быка за рога — начала духовную проповедь. Того, что щуплый крестьянский парнишка заговорит громким, высоким голосом, никто, понятное дело, не ожидал, и все присутствующие тут же уставились на странного оратора.
— Мы все с вами братья и сестры! — объявила крестьянам Татьяна Кирилловна. — Мы с вами выполняем святую миссию, обрабатываем мать сыру землю! Мы соль земли Русской, мы, а не те, кто отошел от Бога и Богородицы и попрал их святые заповеди! Мы землепашцы, основа нравственности и проповедники Евангельских истин!..
Меня сначала тяжелый день в имении Коллонтай, потом суета и беготня последних часов совсем вымотали, хотелось есть и спать, а девица, подхлестнутая завороженным вниманием крестьян, гладко и без остановки несла околесицу. Я, между тем, снял пальто, повесил его на крюк в стене и присел к столу. На меня никто даже не посмотрел.
— …Нужно жить по правде и совести, — вещала девица. — Вот у вас есть нравственные идеалы? — неожиданно прервав свой монолог, спросила Татьяна Кирилловна пожилую женщину.
— Чай, на большой дороге живем, всякие сюда заходят, — не без гордости ответила та. — Это, которые темные, те, конечно, ничего такого не ведают, а мы, как хозяйственные, не хуже людей. А не ты ли, мил человек, отрок святой, про которого бабы говорили? Ходит, говорят, отрок и слово Божье доносит?
— Он, точно он, — не дав девице Раскиной отпереться от святости, вмешался в разговор я. — Ходит и говорит непонятное и, что самое удивительное, ничего не ест и не пьет, даже до ветра не ходит! А меня, люди добрые, пора накормить, напоить и спать уложить.
Такое пошлое вмешательство в проповедь нарушило загадочное обаяние святого таинства: бабы, опомнившись, засновали от печки к столу, а старший брат Петр вместе с двумя меньшими братьями сели рядом со мной.