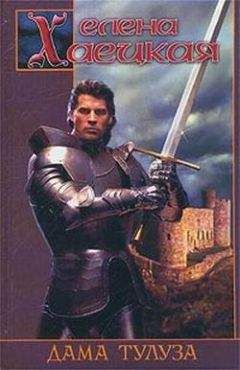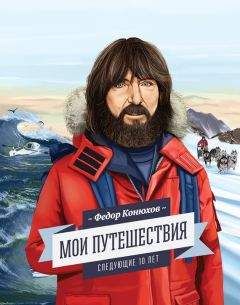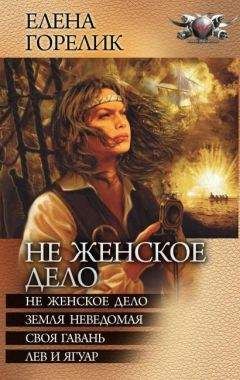– Ах, жена, – говорит он с тяжелым вздохом, – как жаль, что я умираю.
Петронилла не делает ни малейшей попытки высвободиться, хотя лежать с отвернутой головой неудобно. Она смотрит на своего старого мужа. Она видит клеймо смерти на его красивом лице, но ни сострадания, ни жалости не ощущает. Просто смотрит – доверчиво и отстраненно.
Этот человек не играл в ее жизни почти никакой роли. Он жил далеко от нее, и заботы у него были свои. Десять лет назад он взял ее в жены, но так и не сумел сделать матерью. Теперь он умирает.
Гастон приближает пересохшие губы к ее уху. Она слышит шепот:
– Я хочу отойти в чистоте. Помогите мне.
– Позвать священника? – спрашивает она. Спокойно, деловито.
– Нет. Найдите… Оливьера, Госелина, Бернарта Мерсье, Мартена… Кого-нибудь из них. Вы должны знать, где они ныне ходят…
Он торопливо перечисляет имена совершенных, подвизающихся в Гаскони.
Петронилла шевелится рядом с ним на постели, укладывается поудобнее. Все тем же равнодушным тоном переспрашивает:
– Так вы хотели бы умереть в катарской вере?
– Да, – отвечает Гастон. Внезапно его темные глаза вспыхивают. – Черт возьми! Жена! Я, знаете ли, немало крови пролил ради…
И заходится в бурном кашле.
Петронилла отирает забрызганное лицо.
– Хорошо, – тихо говорит она.
И обнявшись, они засыпают.
* * *
Разыскивать Оливьера не пришлось. Скоро он явился сам. С ним были еще двое совершенных. Оливьер обращался с ними как с сыновьями; те же держались с ним почтительно, будто со строгим отцом.
Скрестив на груди руки и склонив голову, Петронилла – графиня Бигоррская – замерла перед ними.
– Благословите меня, добрые люди.
– Благодать Господня да будет на тебе, дщерь, – отозвался Оливьер.
Она выпрямилась. За десять лет Оливьер ничуть не изменился. Все то же грубое нестареющее лицо, все те же резкие тени в морщинах. И все так же горит неукротимый синий пламень в глазах – смертных глазах, распахнутых в Небесный Иерусалим.
– Прошу вас разделить с нами хлеб, – сказала графиня смиренно.
Гости вслед за нею прошли в теплую, по-зимнему натопленную кухню. Неурочный теленок, лежавший у печи в большой плетеной корзине, при виде их поднял морду, поводил пушистыми ресницами.
Петронилла погладила его крутой лобик. Теленок тотчас же норовисто толкнул ее в ладонь.
Оливьер неожиданно тепло улыбнулся.
Петронилла кликнула стряпуху. Та вбежала, споткнулась взглядом о гостей. Застыла с раззявленным ртом. Пробормотала:
– Ох ты, Господи…
Совершенные, все трое, удобно расположились у очага. С благословением приняли горячую воду и кусок влажного, липкого, как глина, крестьянского хлеба. Графиня Бигоррская, отослав стряпуху, прислуживала сама.
Терпеливо выждала, чтобы гости согрелись, утолили первый голод. Только тогда спросила:
– Как вы узнали, что эн Гастон, мой муж, просил разыскать вас?
– Эн Гастон нуждается в нас, не так ли?
– Да.
– Мы пришли.
* * *
Душная опочивальня залита огнями. Коптят факелы, громко трещат толстые сальные свечи, смердят масляные лампы. В узкие окна задувает ветер с горных вершин.
Эн Гастон потерялся на просторной кровати. По его изможденному лицу бродят смертные тени. Графиня Петронилла, десяток домочадцев и несколько соседей – все собрались у ложа умирающего, чтобы тому не было столь одиноко.
И вот пламя свечей в ногах кровати колыхнулось, будто от резкого порыва. В опочивальню входят трое совершенных. Мгновение – глаза в глаза – смотрят друг на друга Оливьер и Петронилла, и, подчиняясь увиденному, графиня Бигоррская опускается на колени, понуждая к тому же остальных.
– Благословите нас, добрые люди.
Негромко произносит второй из совершенных:
– Бог да благословит вас, дети.
И тотчас же все трое словно бы перестают видеть домашних и друзей Гастона. Те, помедлив, один за другим постепенно поднимаются с колен.
Неспешно простирает руки Оливьер. Младший из его спутников накрывает их полотенцем, оставляя свободными лишь кисти. Второй подает большую чашу с двумя ручками. Оливьер медленно опускает руки в воду, держит их там некоторое время, а затем вынимает и дает воде стечь с кончиков пальцев. Мгновение кажется, будто руки Оливьера истекают огнем.
Но вот полотенце снимают и укладывают на грудь Гастона. Гастон вздрагивает – ему холодно. Наклонившись, Оливьер негромко говорит ему что-то на ухо, и Гастон успокоенно затихает. Даже озноб, кажется, отпускает его.
Ладонь Оливьера покоится теперь на голове Гастона. Сильные, красивые руки у Оливьера. Белые пальцы зарываются в густые темные кудри умирающего. Прикрыв глаза, Оливьер начинает говорить – еле заметно покачиваясь из стороны в сторону, растягивая, выпевая слова:
– В начале было Слово. И был человек по имени Иоанн…
Я буду вдовой, думает Петронилла.
Синева Небесного Иерусалима горит в молодых, вечных глазах Оливьера. Петронилла слушает, не понимая ни слова. Синева смыкается над ее головой, утопив, поглотив. Когда эта утопленность становится невыносимой, Оливьер резко обрывает чтение. От неожиданности все вздрагивают: точно убаюканного ударили.
– Брат! – страстно спрашивает Гастона Оливьер (а пальцы совершенного зашевелились на голове умирающего, сжимая его влажные пряди). – Брат! Тверда ли твоя решимость?
Еле слышно отвечает Гастон:
– Да.
И, кашлянув, громче:
– Да.
– Искал ли ты спасение в католической церкви?
– Да.
– Но то было прежде, не так ли?
– Да.
– Знаешь ли ты, что прежде ты заблуждался?
– Да.
– Готов ли ты терпеть за истинную веру?
– Да.
– До последнего часа?
– Да, – говорит Гастон. И снова его одолевает кашель.
Оливьер замолкает. Ждет. Эн Гастон хрипло, трудно дышит, пытаясь справиться с кашлем. Наконец он просит:
– Благослови же меня, брат.
– Господь наш Иисус Христос да благословит тебя, брат, – отзывается Оливьер. У Петрониллы вдруг перехватывает горло. Этот ласковый, низкий, братский голос исторгает у нее слезы.
Гастон, блестя глазами, неотрывно смотрит на Оливьера, будто бы тот мог избавить его от страха и смертной муки, – как голодное дитя на мать с ломтем хлеба в руке.
А Оливьер продолжает вопрошание.
– Обещаешь ли ты служить Богу и Его Писанию?
– Обещаю, брат, – шепчет Гастон. У него лязгают зубы, его трясет в ознобе.
– Не давать клятв?
– Обещаю.
– Не прикасаться к женщине?
– Да.
– Не спать без одежды?
– Да.
– Не убивать живого – ни человека, ни дикое животное, ни птицу, ни домашнюю скотину, – ибо кровь неугодна Господу, пусть даже пролитая за святое дело?
– Я не буду… убивать, – с трудом выговаривает Гастон.
– Обещаешь ли ты не есть ни мяса, ни молока, ни яиц?
– Да.
– Соблюдать четыре сорокадневных поста в году?
– Да.
– Не совершать ничего без молитвенного обращения к Господу?
– Да.
– Ничего не делать без спутников из числа твоих братьев?
– Да.
– Обещаешь ли ты жить только для Господа и истинной веры?
– Обещаю, – говорит умирающий.
Оливьер протягивает ему свою книгу, с которой, видимо, не расстается. Гастон приникает к ней губами.
– Обещаешь ли ты, брат, никогда не отрекаться от нашей веры?
– Да.
– Даже и в руках палачей?
– Да.
И Гастон бессильно падает назад, на покрывала.
Оливьер кладет книгу ему на грудь, как на жертвенник, и скрещенными ладонями накрывает его голову.
– Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! – возглашает Оливьер. Умирающий вздрагивает под его руками. – Дух Святой, Утешитель, приди, низойди на брата нашего!
– Истинно, – отзывается один из совершенных.
Второй подхватывает:
– Дух Святой, Утешитель, приди, низойди на брата нашего!
Первый вновь произносит:
– Истинно.
– Славим Отца и Сына и Святого Духа! – восклицает Оливьер.
Гастон вжимается в свои покрывала. Оливьер освобождает, наконец, его голову от тяжести своих рук и забирает с его груди покров и книгу. Гастон вздыхает свободнее.
– Отец наш, сущий на небе, – начинает петь Оливьер. Гастон вторит ему. Он знает эту молитву. Петронилла тоже теперь знает ее. Вместе с совершенными (их уже не трое, а четверо) она просит доброго Бога об избавлении от власти зла – творца всякой плоти, и о хлебе сверхсущном, который есть слова Жизни.
Когда последнее «истинно» смолкло, Оливьер склоняется к Гастону. Гастон приподнимается ему навстречу, вытянув губы трубочкой, и Оливьер подставляет под этот поцелуй свой утонувший в бороде рот. После, выпрямившись, передает поцелуй стоящему рядом; тот – своему сотоварищу, а третий из совершенных, поскольку рядом с ним оказалась Петронилла, лишь касается ее плеча книгой. Петронилла передает поцелуй той унылой девке, что караулила гастонову смерть, просиживая у господской постели, – и так дальше, от одного к другому, пока поцелуйный круг не замкнулся.