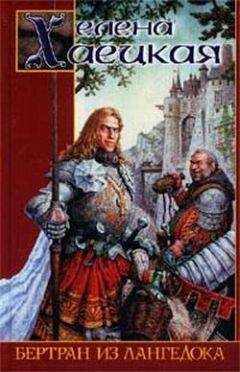Бертран – сама лучезарность, сама куртуазность, само воплощение братской любви – с коня сошел, навстречу брату двинулся.
– Добро пожаловать, – сказал Константин. – Добро пожаловать, мессен старший брат мой.
Бертран Константину поклонился. Поискал глазами: где домна Агнес?
Агнес де ла Тур на поклон ответила вежливо, но глаза отвела в сторону и руки для поцелуя не протянула. Константин слегка покраснел, однако одернуть супругу не решился.
А Бертран будто и не заметил этой холодности. Следом за Бертраном и сыновья его подошли, Бертран и Итье, оба воспитаны и вымуштрованы, оба безупречно куртуазны.
Последней – за руку, будто принцессу, – торжественно подвел Бертран свою дочь Эмелину. Как учили, низко присела, а после голову вздернула, глазами с Константином встретилась. Глаза у девочки светло-карие, золотистые, с лучиками, взгляд ясный, немного любопытный. Светло от такого взгляда.
Домна Агнес руку протянула, за подбородок девочку Эмелину взяла. Детское лицо такое чистое, что, кажется, сияние от него исходит. Слегка наклонившись, домна Агнес поцеловала ее в лоб.
Выпрямилась.
И тут-то Бертран и подловил ее взгляд. Гневно смотрела на него домна Агнес. Могла бы – испепелила. А Бертран – сама лучезарность, само спокойствие.
Слуги между тем коней развели, сами куда-то сгинули. Не то на кухню, не то на солнышке валяться. Бездельники.
Юк вертелся повсюду, размахивал своей разукрашенной лютней, отвешивал всем и каждому, даже лошадям, нижайшие поклоны и шутовство свое довел до невыносимых пределов.
Константин брату предложил с дороги передохнуть (дорога от Борна до Аутафорта два часа занимает), а после, за дневной трапезой, обсудить – на прогулку ли с дамами отправиться, песенный ли турнир устроить?
– А состязаться-то с кем? – полюбопытствовал Бертран.
– Да уж точно, брат, равных вам нет, – вежливо ответил Константин. – Однако слышал я, что и старший сын ваш изрядно поднаторел в сочинении сладкозвучных песен.
Бертран хмыкнул.
– Если дамам будет угодно нас послушать… что ж, можно их порадовать.
Константин обрадовался. Тревога вдруг отпустила его. Коли брат петь сюда приехал и детей своих привез, то подвоха ожидать нечего.
Правда, Рено несколькими часами спустя (пока Бертран беззаботно отдыхал на необъятной хозяйской постели, где признавший его белый щенок напустил от восторга лужицу) пытался остудить радость своего господина.
– Бертран не петь сюда приехал, – в который раз уже твердил Рено.
– Да с чего ты взял, – сердито отвечал Константин, на старика нарочно не глядя.
– Сердцем чую, – ворчал Рено. – Нельзя быть таким доверчивым. Пожалели бы домну Агнес. Да и Гольфье, помоги ему Господи, весь в этого Бертрана удался!
Константин нахмурился. Такой светлый, ясный день, а Рено как черный ворон.
– Мы помирились, – упрямо повторил Константин. – Аббат Амьель вразумил моего брата. Бертран прибыл показать, что не держит на меня зла.
– Он не отступится.
– Он получил то, что хотел. Граф Риго согласился быть нашим поручителем.
– Граф Риго! – фыркнул старый солдат. – Вот уж у кого семь пятниц на неделе. Не зря Бертран зовет его «Да-и-Нет».
– «Да-и-Нет» – так называлась еретическая книга, ее святой Бернарт распорядился сжечь, – сказал Константин. – Опасно шутит мой брат.
– Вот-вот, – сказал Рено. – Бертран всегда опасно шутит. Не надо было его пускать.
– Да ты, старый, никак совсем из ума выжил! – вскипел Константин. – Как это я родного брата к себе в дом не пущу?
Рено только головой безмолвно мотал, чем раздражал своего господина все больше и больше. Наконец Константин закричал, срываясь:
– Ну за что, скажи мне, за что ему меня ненавидеть?
– Он считает, что вы убили его мать, – ответил Рено.
* * *
Праздничное пиршество с выступлением трубадуров удалось на славу. Правда, общую радость несколько портило мрачное выражение лица дядьки Рено. Но Рено почти всегда угрюм и мрачен, а в жизни видит только темные стороны, и потому на него мало кто обращал внимание.
Домна Агнес устроилась в маленькой беседке, на скамье с мягкими подушками, среди лент, искусственных цветов и зеленых веток. Рядом с домной Агнес, тоже на мягкой подушке, сидит девочка Эмелина, от волнения раскрасневшаяся. Длинные косы Эмелины падают на грудь и спину, на голове тонкий обруч из мягкого золота с несколькими красными камешками.
Бертран смотрит на них издали (домна Агнес с умыслом устроилась так, чтобы он не мог к ней приблизиться) и не может решить, которая из двух краше.
Жонглер Юк, отпившийся в Борне горячим молоком и отъевшийся сырыми яйцами, восстановил свой прекрасный голос и сейчас поет, стоя на голове и созерцая прекрасных дам умильными, несколько выкаченными от напряжения глазами.
Девочка Эмелина смеется, бьет в ладоши. Домна Агнес, видя ее радость, поневоле улыбается.
Гольфье де ла Тур, спрятавшись за спиной Рено, корчит рожи.
На Рено хмуро поглядывает Бертранов слуга, о котором терзаемый подозрениями старик уже выведал, что тот наваррец.
А праздник катится своим чередом. Очень недурно поет старший Бертранов сын – Бертран. Итье пытается подпевать, но только безмолвно губами шевелит – не очень-то доверяет своему умению.
Зато Бертран де Борн застенчивостью не страдает. Отставив пустой кувшин, обтирает губы ладонью и принимается петь – самозабвенно, во все горло. Жонглер Юк, преданный друг и слуга, подыгрывает и подпевает, стараясь выровнять неровное Бертраново пение, так что в конце концов получается очень неплохо.
Бертран настроен мирно, все стихи – только о любви и о весне. По просьбе Константина исполняет знаменитую свою кансону о Составной Госпоже, суть которой сводится к невыполнимому желанию: если бы стан Маэнц де Монтаньяк, круглое лицо королевы Альенор, да к правильным чертам Гвискарды де Бельджок, да приделать бы этой красотке пышные золотые волосы домны Аэлис, снабдить ее покладистостью и добрым нравом домны Айи, добавить знатность и куртуазность Матильды, сестры графа Риго, – то-то была бы домна! Весь Лимузен бы содрогнулся, Перигор бы затрясся, а он, Бертран, любил бы ее всей душой.
Тут девочка Эмелина вскочила, уронив атласную подушку на землю, и закричала:
– Дайте мне лютню! Я тоже петь буду!
Оба ее брата нахмурились, а Итье – тот даже покраснел. Бертран же, сын Бертрана, сказал строго:
– Не позорь нас, Эмелина. Не подобает молодой девушке петь в большом обществе.
– А я хочу! – закричала Эмелина. – Я ведь умею!
– Мало ли кто что умеет, – сказал Итье.
Но тут домна Агнес вмешалась и мягко попросила:
– Пусть споет. Мы ведь не в большом обществе, племянники мои строгие, а в кругу семьи.
И посмотрела на Бертрана де Борна.
А Бертран – сама радость, сама поэзия, сама весна.
И Эмелина, зардевшись, вышла из беседки, по пути о подушку споткнулась. Жонглер Юк, изогнувшись в причудливом поклоне, подал девочке лютню.
Эмелина лютню взяла, струны тронула. После один из бантов, что на лютне завязаны для красы были, развязала и на землю бросила. И запела, опередив лютню, – пальцы лишь потом подхватили то, что начал голос, неожиданно сильный, свободный.
Если вы подумаете, что девочка Эмелина пела о любви, о весне, об ожидании любимого, то сильно ошибетесь. Нет, это нежное, как птичка, существо воспевало радости войны, взявшись за одну из самых яростных песен своего отца.
И оттого, что нежные девичьи уста без боязни выговаривали лихие воинские угрозы, Константину сделалось не по себе. И снова охватил его тот сквозняк, первое дуновение которого он почуял еще в тот день, когда заключал мир со старшим братом.
Оборвав песню (забыла последнюю строфу и бросила петь на середине), девочка возвратила лютню Юку, низко присела перед слушателями и медленно пошла обратно в беседку, к домне Агнес.
Подняла подушку, устроилась на скамье, уселась, расправила юбки. И руки на коленях смирненько сложила.
Домна Агнес сидела неподвижно, как изваяние. И только когда все загалдели, засмеялись, начали хвалить дочку Бертрана, тихо проговорила – так, что слышала только Эмелина:
– Сам волк, и дети его – волчата.
* * *
Глухой ночью, когда собаки уже заснули, а волки еще не проснулись, Бертран неслышно поднялся со своего ложа и тихо спустился во двор.
Вторая темная тень стояла там, таясь у стены.
Бертран глухо позвал:
– Эмерьо!
Наваррец отозвался тихим свистом. И тотчас же второй Бертранов «слуга» отделился от стены, где они с Эмерьо ждали знака, и подошел к своему товарищу. Бертран показал в сторону ворот, на ночь закрытых, согласно обычаю (совсем неподалеку виконт Адемар в очередной раз воевал с графом Риго).
Эмерьо скользнул вперед – ласка в курятнике. Константинов человек, стоявший у ворот, и вскрикнуть не успел, только булькнул в темноте невнятно – так быстро и сноровисто Эмерьо перерезал ему горло. Осторожно, как мать уснувшее дитя, опустил бездыханное тело на землю, мимолетно пожалев об оборвавшейся жизни.